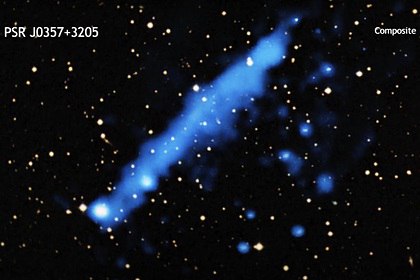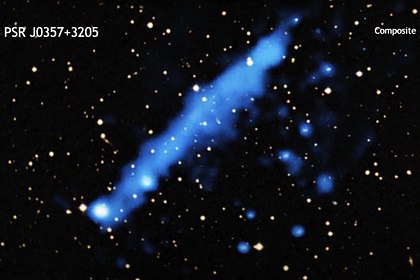Переболеть историей. Интервью с писателем Михаилом Зыгарем о том, как рассказывать о трагедии Бабьего Яра по-новому
29 сентября исполняется 80-я годовщина трагедии Бабьего Яра, самого массового единоразового убийства евреев во время Второй мировой войны — за два дня в одноименном киевском урочище нацисты уничтожили около 34 тысяч человек.
К этой дате Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр и основанная писателем Михаилом Зыгарем студия История будущего выпустили аудиоспектакль 29/9, который с помощью технологии дополненной реальности рассказывает о том, что происходило в дни катастрофы.
НВ поговорил с Зыгарем о том, как говорить об истории в XXI веке, насколько люди готовы к новым форматам потребления информации и чему будет посвящена новая книга писателя.
— В конце своей книги Империя должна умереть вы написали, что мы все «больны нашей историей». Как человек, который постоянно сталкивается с архивами и работает с памятью, что к этому времени вы поняли о том, как правильно говорить об истории?
— Есть ощущение, что под историей разные люди понимают разные вещи. История, которой занимаюсь я — это, скорее, не наука о том, что было; а наука об источниках и о том, что они рассказывают нам о людях и прошлом.
При этом очень часто история подменяется мифологией. По миллиону разных причин. С одной стороны, потому что нередко историки выступают как интерпретаторы, которые добавляют свою логику, смыслы и дополнительные идеологические конструкции, подкрепляя их фактами. Это уже некая традиция, и так будет всегда. На этом строилась любая идеологизированная история. Например, советская история была подчинена исключительно идеологии. Какие-то факты туда вписывались, поэтому они и сохранялись; а какие-то — не укладывались в эту стройную и странную линию, и потому игнорировались. Но это грех не только советской, но и любой традиционной историографии, которая должна была быть политически ангажированной.
Читайте также:

Патрик Дебуа Место одного из крупнейших в истории преступлений. Что нужно знать о Бабьем Яре
Историю всегда использовали как обоснование легитимности режима. И когда я писал, что «мы больны историей», то отчасти я имел в виду «болезнь», которую несли на себе многие поколения людей, не задумываясь о том, что может быть иначе и что история не обязательно должна быть историей руководителей.
Особенно эта болезнь выражается в подходах, господствовавших во всем мире в XX веке, когда за историей подглядывали, как сквозь замочную скважину в спальне царя или кабинете президента. И только последовательность сменяющих друг друга голов руководителей воспринималась как настоящая «история, которую пишут победители».
Гуманистический взгляд на историю — это довольно новый тренд, возникший за последние два десятилетия, согласно которому люди, общество, обычный человек впервые стали предметом интереса. Мы стали задумываться не о том, как надо воспринимать прошлое, а о том, каким оно на самом деле было; что нам говорят источники, а не ангажированные историки, которые знают, как эти источники трактовать, и подводящие историческую базу под идеологию режима.
В этом смысле, мне кажется, сейчас это не только мое увлечение, но и главная задача нашего поколения — людей, которые начинают очищать историю от навязанных нам идеологических фильтров.
— В связи с этим возникает вопрос: возможно ли «переболеть историей», проникнув в шкуру человека из другой эпохи? Вот, например, художественный руководитель Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Илья Хржановский предлагает путь опыта, через который будет эмоционально проживаться трагедия. Что в конечном итоге дает нам опыт трагедии?
— История в любом случае нужна для понимания себя, своего контекста; того, где ты находишься; всех травм, которые пережило общество, а также почему оно так функционирует.
В этом смысле общества отчасти можно сравнить с людьми: это очень сложные организмы, у которых тоже есть свои психологические травмы, с которыми никто никогда не боролся. Наоборот, их «залечивали», заклеивая новыми мифами или нанося новые травмы. Поэтому осознание и проговаривание историй из прошлого приводит к большей осознанности в отношении того, каким может быть будущее.
История, как и поход к психоаналитику, нужна человеку не для того, чтобы погрузиться в прошлое и покопаться в том, что уже безвозвратно ушло, а для того чтобы наладить отношения с собственным будущим, построить возможные сценарии и не допустить очевидных ошибок. Ровно для этого нам нужны психологический и исторический опыты. Осмысление истории — это, по сути, коллективный психоанализ.
— Во время своих исследований вы изучали 1913, 1917, 1968-й годы, а сейчас занялись Бабьим Яром. Как писатель и историк, вы нашли для себя ответ, почему произошедшее 29 сентября 1941 года в принципе стало возможным? Как мы можем предотвратить это в будущем?
— Это очень амбициозная цель — и первая, которую я перед собой ставил. Я не занимался идеологией Фонда Бабий Яр — он поддерживает множество художественных документальных проектов, которые решают разные задачи. Но когда я думал о диджитал-спектакле, который мы ставили в Бабьем Яре, для меня было важно, чтобы зрители не чувствовали никакой бездны между нами и тем, что произошло 29 сентября 1941 года и в последующие несколько дней. Потому что главная особенность и проблема отношения человека к истории, — «это было далеко, давно и не имеет к нам никакого отношения». Точно так же люди часто относятся тому, что происходит в настоящем, но за километры от них, — «это чужая война, чужая катастрофа, не имеет прямого отношения ко мне».
Мне показалось важным стереть эту границу и это непреодолимое пространство. Поэтому наш спектакль не только о событиях в Киеве, но в целом об одном дне — 29 сентября 1941 года. Во время спектакля, когда вы пройдете по улице Ильенко и зайдете в парк — путь, которым шли евреи 29 сентября, — вы услышите не только их голоса, но параллельно и голоса людей, ничего не знающих о произошедшем; голоса жителей Киева, которые просто сидят у себя дома и не подозревают, что происходит в этот момент. До них доносятся какие-то противоречивые слухи, но в целом город ничего не знает; люди не сразу начинают подозревать, что происходит что-то страшное.
Осмысление истории — это, по сути, коллективный психоанализ
Одновременно с этим вы слышите голоса людей, которые в тот самый день находились в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Стокгольме, Берлине. Многие из этих людей жили обычной, вовсе не военной жизнью: слушали музыку, воспитывали детей, читали книги, ходили в театр, ставили театральные постановки…
Наш спектакль не преследует цель напугать и погрузить в кромешный ужас Бабьего Яра 29 сентября, а наоборот — стремится показать, что обычная жизнь всегда соседствует с любой катастрофой и трагедией, и большая часть людей никак ими не затронута. Они могут быть соседями, находиться через стенку и совершенно не подозревать о происходящем. И это, мне кажется, психологически очень точно попадает в наше сегодняшнее восприятие того, что происходит недалеко от нас. Находясь в комфортном кафе в Киеве, у себя дома или где-либо еще, при всем внешнем благополучии невозможно поверить и представить, что недалеко во времени или в пространстве происходит катастрофа. И мы все знаем, что пока мы здесь сидим, где-то убивают — это не новое ощущение, оно знакомо каждому нашему современнику и зрителю этого спектакля.
Эта мысль может помочь совсем по-другому взглянуть на эти события и, возможно, почувствовать самое страшное, — что все это повторяется: массовые убийства происходят и в XXI веке, и мы точно так же не знаем о них, не слышим и не чувствуем. В этом смысле нас почти ничего психологически не отделяет от тех людей, которые живут спокойной, мирной жизнью 29 сентября 1941 года.
Трейлер аудиоспектакля 29/9
https://www.youtube.com/watch?v=M-kmt1-MSn0
— Насколько люди готовы воспринимать новые форматы изучения истории и потреблять информацию по-новому?
— По-моему, люди ко всему готовы, просто предложения нет. Проблема в том, что еще нет этих новых форматов, которые показывали и рассказывали бы историю по-новому. В этом смысле технологии сильно опередили готовность творческих людей ими пользоваться. Но психологически это неизбежный процесс: мобильные телефоны и соцсети навсегда изменили психологию поколения 25-, и с этим невозможно ничего поделать. Это невозможно как-то критиковать или отрицать — люди никогда не будут потреблять информацию как раньше. Культура потребления больших объемов информации — это новая привычка, которая уже с нами. Конечно, она изменила очень многое, но это и очень здорово. Можно бесконечно ворчать, что потребители подолгу не фокусируются на информации, что у них клиповое сознание, и вешать другие ярлыки, но, во-первых, это уже случилось и сделало любую — в том числе историческую — информацию очень доступной. Теперь не нужно идти в библиотеку, можно просто взять телефон и погуглить.
Я уверен, что количество людей, которые хотели читать 20 лет назад и которые хотят читать сейчас, примерно одинаковое. И невозможно критиковать тот факт, что способность дотянуться до информации стала намного доступнее. От общего числа желающих половина могла до библиотеки не дойти, а до телефонов все дотянутся.
Появление новых жанров также неизбежно. Невозможно в новом мире для аудитории с новой психологией продолжать делать вид, будто ничего не произошло, и заставлять всех читать один и тот же бумажный учебник. Если мы думаем, что новые технологии — это только бессмысленный TikTok, а весь осмысленный контент должен быть только в бумажной книжке, тогда мы просто потеряем всю эту аудиторию.
— То есть вы думаете, что проблема, скорее, в нехватке предложения?
— Мне кажется, придумывается мало новых мультимедийных жанров. Нужно, чтобы производители контента были менее ленивыми и консервативными, а более изобретательными. Пришло время изобретать не темы — пришло время изобретать жанры. У нас сейчас «эпоха Возрождения», и поскольку человечество поменялось, должны быть изобретены новые виды искусства.
Массовые убийства происходят и в XXI веке, и мы точно так же не знаем о них, не слышим и не чувствуем
— Вы уже выпускали мобильные исторические сериалы, аудиоспектакли, применяли AR-опыт в месте мемориализации — планируете в рамках своей работы использовать еще какие-то инструменты?
— Я все время об этом думаю, пытаюсь нащупать разные способы общения с широкой аудиторией. Форматов действительно много. Сейчас у меня есть несколько параллельных сериальных проектов — это обычное художественное игровое кино, только благодаря Netflix и другим стриминговым платформам этот жанр обретает абсолютно новый смысл и новое влияние.
Сериалы — это один из важнейших видов искусства начала ХХI века; куда влиятельнее, чем книги. И конечно же, нужно идти туда и искать новые диджитал-форматы. Я продолжаю экспериментировать: я уже делал исторические соцсети, сериалы с вертикальной ориентацией для мобильных телефонов, развиваю жанр диджитал-театра, и конечно, в ближайшее время буду запускать мобильные приложения в Лондоне, Париже и Киеве. Мне кажется, это хороший и, главное, перспективный проект.
Дополненная реальность — классный жанр, которому не придумано нормального применения. Кроме игры Pokemon Go, никто до сих пор не придумал, как это использовать. Не думаю, что в ближайшие десятилетия найдут настоящее применение для VR, но для дополненной реальности точно можно. Это очень подходящий инструмент для воспроизводства истории.
https://www.instagram.com/p/CLmG0WWMXVG/?hidecaption=true
— Насколько большая команда работает над созданием подобных аудиоспектаклей и насколько сложен этот процесс?
— Это сложный процесс, потому что есть софт, который всегда нуждается в том, чтобы его улучшать и «докручивать», делая его еще удобнее. Сфера IT — это не самая важная, но самая немаловажная часть творчества. В этом смысле программисты — главные художники.
Есть важная команда ресерчеров — это прекрасные украинские историки, которые занимались поиском информации и продолжат это делать в следующих проектах. Они консультировали, критиковали, давали свои советы. Поскольку любая история — это всегда трактовка, с одной стороны, важно рассказать историю так, как раньше ее было рассказывать не принято и немодно. С другой стороны, важно, чтобы как можно больше людей почувствовали ее своей, но это их не отторгнуло. Поэтому это сложная контентная работа.
К тому же важную роль играют драматурги. Для меня режиссура имеет особенный, отдельный смысл. В обычном театре режиссер просто работает с актерами, чтобы они правильно произнесли тексты, сделали верные жесты и выражение лиц, а для нас очень важна режиссура зрительского восприятия, чтобы спектакль был правильно вписан в контекст города, когда все дорожки и деревья, и памятники по бокам, и здания, и горизонт, и случайный прохожий работают на единую картину. Нужно предусмотреть все, что зритель видит на своем пути, чтобы это тоже становилось частью перформанса.
И, конечно же, звук. Для каждого спектакля всегда подбираются отдельные композиторы и драматурги, как и в обычном театре.
— А насчет работы в Киеве уже есть какие-то планы, подробности?
— Есть, но я пока не могу назвать даты.
— Чем интересно было бы здесь заняться?
— Я уверен, что мы вместе с киевской командой сделаем мобильный театр в Украине. В течение ближайшего года это будет важным для меня делом.
— Сейчас вы работаете над книгой о распаде СССР — задача не менее амбициозная, чем писать о распаде Российской империи. Как давно вы ее пишете?
Читайте также:

Марат Гельман Как автор книги «Шок будущего» повлиял на СССР
— Я начал собирать информацию примерно с момента, когда закончил книгу Империя должна умереть в 2017 году. Это сложная и длинная история. У меня нет никаких сомнений в том, что она нужна, ведь эту историю никогда не описывали сложно. В России она всегда описывается москвоцентрично и традиционно упрощается: все важное происходило между Горбачевым и Ельциным, а все остальные люди не важны.
Мне кажется, что упрощение — это не просто искажение, а нарочная подмена. Оно всегда делает историю менее достоверной и обычно нужно для того, чтобы навязать читателю вывод. Как правило, автор заранее знает, что он хочет доказать, и к этому выводу подтягивает все свои факты.
Если же писать историю многопланово, пытаться одновременно показать разные факторы, смотреть на все и глазами людей, которые жили в Киеве, и глазами людей, которые жили в Тбилиси, в Вильнюсе, в Москве, а также не отгораживаться от внешнего контекста, — то есть Китая, Восточной Европы, Афганистана, США, — и воспринимать историю в общем культурном контексте (вспомнить, какое кино люди смотрели, какую они слушали музыку, во что они верили, как быстро менялась психология людей), мне кажется, это может сделать «пазл» куда более разнообразным и куда менее ангажированным, и оттого более полным. Это моя задача — я собираю гигантский «пазл».
— С кем вы уже успели пообщаться в рамках подготовки книги?
— Я несколько раз приезжал в Киев, общался с большим количеством бывших политиков, диссидентами, посещал Чернобыль, ездил к Игорю Дунайскому во Львов. То есть я прошелся по большому количеству разных имен. Понятно, что за ресерчем я ездил не только в Украину. Обычно, когда я пишу книги, то делаю большую и очень подробную базу данных, где пытаюсь с максимальной точностью описать — как минимум по месяцам, а то и по дням, — что делали разные действующие лица, что они говорили, какие давали интервью, чтобы воссоздать их тогдашний ход мыслей. Не ретроспективную картину, как они счастливо вспоминают те времена, а о чем они тогда думали, чего ожидали и чего боялись, каким им тогда виделось будущее. Вот в какой момент люди поняли, что Советский Союз распадется? Почему весной 1991 года почти никто даже не мог себе этого представить? Это же самое интересное.
— А вы нашли ответ на эти вопросы?
— Этот ответ будет содержаться внутри очень толстой книжки. Очень длинный ответ.