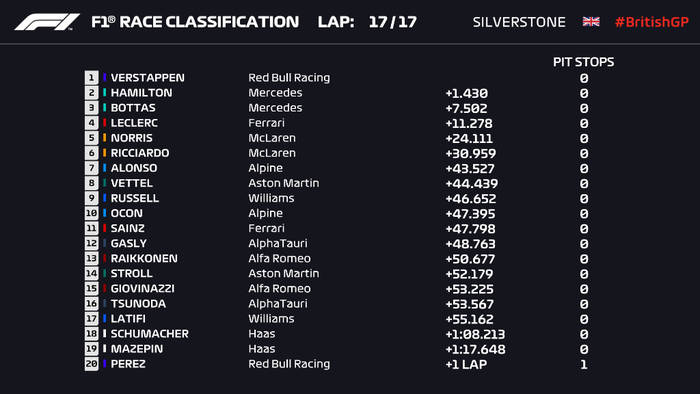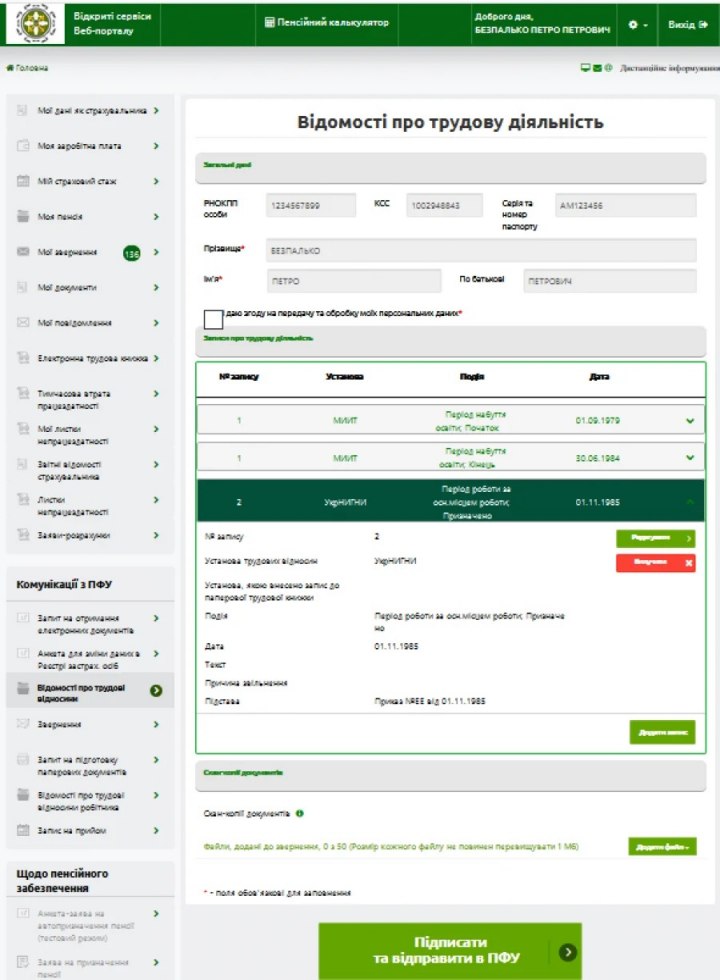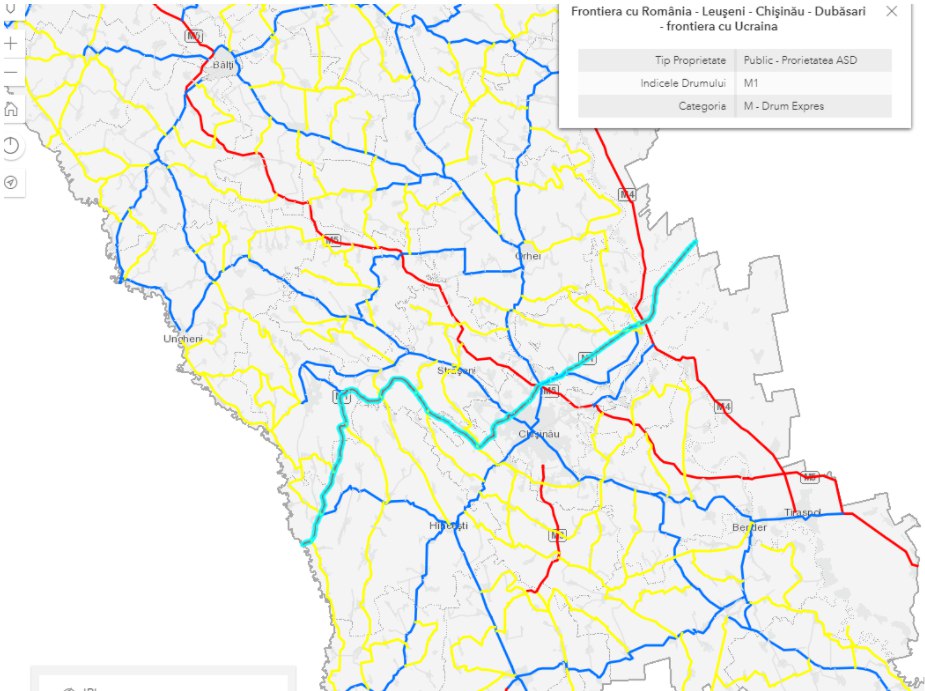«Важно все делать по-честному». Интервью с лауреаткой Шевченковской премии Катериной Сулой
Сложно ли ребенку с ментальными нарушениями адаптироваться в социуме, для чего нужны инклюзивные классы и как работать с детьми с аутизмом — об этом НВ поговорил с Катериной Сулой, специалисткой по сопровождению людей с инвалидностью.
Катерина Сула — исполнительный продюсер музыкальной агенции УХО. В 2021 году она вместе с командой получила Шевченковскую премию за цикл концертов Архитектура голоса — серию музыкальных событий, которые проходили в разнообразных оригинальных локациях Киева, от церкви до нудистского пляжа.
Более двадцати лет Катерина Сула работает с детьми, которые имеют ментальные нарушения и другие формы инвалидности, например ДЦП или нарушения зрения. В своей работе она использует индивидуальный, творческий подход к каждому ребенку, отталкиваясь от особенностей его восприятия мира.
В интервью НВ Сула объясняет, как музыка и искусство помогают ей устанавливать контакт с самыми разными детьми, говорит о значении для нее Шевченковской премии и рассуждает о видимости людей с инвалидностью в Украине.
— Что означает для вас Шевченковская премия? Стала ли она неожиданностью?
— Если честно, я все равно продолжаю считать, что это Сашина заслуга [имеется в виду директор агенции УХО Александра Андрусик, которая получила премию вместе с Катериной Сулой и еще одним их коллегой — соучредителем агенции УХО Евгением Шимальским, — НВ].
 Катерина Сула занимается сопровождением людей с инвалидностью и работает с детьми, в том числе, и с ментальными нарушениями / Фото: НВ
Катерина Сула занимается сопровождением людей с инвалидностью и работает с детьми, в том числе, и с ментальными нарушениями / Фото: НВВ этой номинации мы выиграли втроем, это было три имени. Хотя, наверное, невозможно одному ничего сделать. Со временем ты начинаешь ценить эти маленькие компании единомышленников, когда можно друг на друга положиться. Потому что когда история сложная на всех уровнях, чтобы ее доделать до конца, нужны очень верные товарищи рядом. В этом состоит ценность такой маленькой компании. Будем ли мы продолжать заниматься тем же? Наверное, да.
— Как появилась сама идея проекта Архитектура голоса?
— Саша все придумала, а мне было очень интересно. Я до этого никогда такой современной музыки не слышала. Подумала: почему я хожу в музеи современного искусства, смотрю современную живопись, а современную музыку не слышу? Поэтому мне просто было интересно слушать эту музыку, помогать Саше и все это делать вместе с ней.
Мне очень нравится смешивать слои: когда у тебя есть какая-то красивая история в одной плоскости, очень легко ее как метафору использовать в плоскости другой. Мы с Сашей обсуждали, что эта работа — она как икебана, в ней все должно сочетаться, все элементы должны быть самыми лучшими. При этом оно может быть и с какой-то щербинкой, но эстетически все вместе должно сработать на результат.
— Как выбирали локации для концертов?
— Я два года прожила во Львове — там вся городская инфраструктура так или иначе связана с религией. И это надежно, это надолго — ты там можешь всегда найти поддержку. Но здесь, в Киеве, такого не было — все стараются делать мероприятия по-светски, не связывать ни с политикой, ни с религией. Все это — отдельные истории.
Мне очень нравится смешивать слои: когда у тебя есть какая-то красивая история в одной плоскости, очень легко ее как метафору использовать в плоскости другой
Тем не менее одна из локаций, которая мне запомнилась, — это православная церковь на Подоле, в которой на полу сохранилась разметка спортивного зала, в качестве которого ее использовали в советское время. Это была оперная студия, то есть там осталась хорошая акустика. У нас была спортивная серия концертов, и мы сделали концерт в этом зале — с этой спортивной разметкой, с хорошей акустикой. И это было очень непохоже на ту музыку, которая там может звучать, очень непривычно для действующей церкви. Это происходило как раз на праздник Троицы.
Когда проводили репетицию концерта на стадионе Динамо, начался дождь, и я вообще сказала, что на открытых площадках никогда не буду больше такого делать. Вот как с нудистским пляжем: это всегда риск — делать что-то на открытых локациях. Репетиция заканчивается — начинается дождь, заканчивается дождь — начинается концерт. Это как повезет. А может же и не повезти.
— Как ваша работа с творчеством, в частности с музыкой, помогает вам в работе с детьми?
— В 12 лет я попала в студию творческого развития, она называлась Мультистудия. Мне повезло с учителями, ведь они считали, что благодаря анимации любой ребенок может отлично реализоваться. То есть, скажем, если он не пишет, то может нарисовать; а если не рисует, то может за камерой постоять или какую-то другую важную роль выполнить. Это коллективный процесс производства мультфильма, но каждый может там реализоваться. Это свобода и особое отношение к творчеству. У меня все пошло именно оттуда.
 Одна из особенностей детей с аутизмом, связанная с речью — они не понимают, зачем им пользоваться словами, чтобы что-то попросить, если они могут и так это взять, объясняет Катерина Сула / Фото: НВ
Одна из особенностей детей с аутизмом, связанная с речью — они не понимают, зачем им пользоваться словами, чтобы что-то попросить, если они могут и так это взять, объясняет Катерина Сула / Фото: НВ— Почему вы вообще выбрали это направление — работать с детьми?
— Это одно из направлений, в которых я работаю. Мне, например, кроме этого нравится устраивать выставки знакомых художников. Это тоже, наверное, из-за студии, где я училась в детстве, из-за таких педагогов.
Я вскакиваю и выскакиваю из всех этих историй. До какого-то момента я что-то делаю, потом раз — мне больше нечего говорить, надо самой научиться, и это такой обмен знаниями. Ребенок не придет к тебе второй раз, если ты когда-то был с ним нечестен, поэтому важно делать все по-честному.
Оказалось, что если ты исходишь из базовых принципов уважения к человеку, к ребенку, то на этом как раз и строишь и отношения, и работу. И ты быстро перестаешь жалеть этих детей.
— Сложно ли находить подход к таким детям?
— У меня есть незрячая подруга, с которой мы учились на психологическом факультете. Я рассказала ей, как однажды общалась с мальчиком с нарушением зрения — у него остаточное зрение. Мне нужно было подождать, чтобы он ко мне привык, голос мой услышал и так далее. А я как-то резко к нему подскочила, когда он этого не ожидал — мальчик обернулся и меня укусил. В ответ на что моя подруга поделилась со мной историей о взрослой незрячей девушке, которая пришла на собеседование, но что-то пошло не так — в общем, на работу ее не взяли. И она укусила там человека. Взрослая барышня — и кусается.
Почему так происходит? Потому что такие люди иногда еще социально незрелы, у них может быть мало социального опыта. Это первичные реакции: когда не знаешь, как себя вести, то выдаешь вот такие вещи.
Одна из особенностей, связанных с речью, у детей с аутизмом — они не понимают, зачем им пользоваться словами, чтобы что-то попросить, если они могут и так это взять
Нужно понимать, что это ничего не значит. Это не значит, что такой ребенок — маленький, агрессивный и злой. Может быть все что угодно — вплоть до того, что из-за отсутствия опыта и незнания, как реагировать на подобные моменты, человек просто поступает вот так.
— Изменилось ли, по вашим наблюдениям, отношение общества к детям с ментальными нарушениями за последние несколько лет?
— Есть такое выражение, что понятие нормы видно только или когда она формируется, или когда она разрушается. Классно, если мы вообще перестанем об этом говорить, — тогда все как-то должно прийти к норме. Когда появятся такие вещи, как универсальные дизайны [пространств, адаптированные в том числе для людей с инвалидностью], универсальные программы обучения и всего прочего, тогда мы перестанем об этом говорить, как о чем-то особенном. И это будет показателем, что все хорошо.
— Как оцениваете идею внедрения инклюзивных классов в Украине?
— Есть несколько различных форм [организации учебного процесса]: интеграция, инклюзия и толерантность. Инклюзия — это чтобы всем было одинаково удобно в одном пространстве, а интеграция — сделать так, чтобы ребенок в это пространство встроился, смог, «потянул» все.
Мне кажется, до инклюзии нам все еще очень далеко, есть некоторый хаос. Да, существуют какие-то нормы, но в каждом городе это все работает по-разному. Моя подруга в Днепре не может свою дочь отдать в инклюзивный класс — ее не берут, потому что у нее эпилепсия и это проблема для них. В Киеве в частных школах, насколько я знаю, может быть по три ребенка в классе, которые занимаются с тьюторами, то есть с сопровождающими. На самом деле, дети проще к этому относятся — они быстрее привыкают друг к другу, и никто никому не мешает.
— В последнее время стала замечать, что в том же Фейсбуке очень многие пишут, что у них дети, например, с аутизмом. Таких детей по каким-то причинам стало больше или эти случаи просто чаще «подсвечиваются»?
— Да, они были и раньше, просто сейчас стали больше это подсвечивать. В советское время это называлось дефектология — направление, по которому классно работали с незрячими, с неслышащими детьми. Но вот с такими категориями детей, как дети с ДЦП, с аутизмом, по-моему, тогда все «завалили». Психиатрия — да, она развивалась, но это было из серии «отправить человека сразу в психиатрическую больницу, наколоть чем-то — и все».
— Есть ли у аутизма какие-то формы, градации в плане сложностей с социальной адаптацией?
— Этот диагноз ставит команда врачей, невролог и психиатр. В советское время, например, логопедам запрещали с детьми возрастом до трех лет пользоваться альтернативными способами коммуникации, потому что ребенок, мол, тогда не заговорит. Но потом выяснилось, что дети с аутизмом могут заговорить позже, а могут вообще не заговорить.
Одна из их особенностей, связанных с речью — они не понимают, зачем им пользоваться словами, чтобы что-то попросить, если они могут и так это взять. Но необходимость в коммуникации — это одна из педагогических, психологических задач. И сейчас все приемы работы с такими детьми к нам приходят откуда-то, это не мы их разработали.
 В работе с детьми, признается Катерина Сула, необходимо все делать по-честному, иначе ребенок не придет к тебе снова / Фото: НВ
В работе с детьми, признается Катерина Сула, необходимо все делать по-честному, иначе ребенок не придет к тебе снова / Фото: НВИ логопеды, которым раньше запрещали пользоваться альтернативными методами коммуникации, теперь знают, что нужно делать наоборот — ведь необходимо придумать какое-то средство или способ коммуникации с каждым ребенком.
Кстати, в мировой практике логопедов называют speech therapist [речевой терапевт, — НВ], а наши специалисты еще не переформатировались, они только начинают это делать. И часто они все равно мучают этого ребенка, чтобы он заговорил. Как следствие, потом могут начаться проблемы с поведением.
— С детьми с аутизмом сегодня уже работают некоторые общественные организации; есть специалисты, которые такими детьми занимаются. А что со взрослыми — для них есть какое-то сопровождение?
— Ничего нет. Во Львове есть организация, учебно-реабилитационный центр Джерело, они в прошлом году подали городской проект — Дом поддерживаемого проживания. Выиграли три миллиона гривен из городского бюджета, за это весь город проголосовал. К тому же такие истории там могут поддерживать религиозные организации. Однако в целом проблема не в самой организации, а скорее в сопровождающих людях. Конечно, нужно сопровождение. Но как раз нет людей, которые будут выполнять эти обязанности, потому что их надо обучить.
— Как отличается ситуация в небольших населенных пунктах, например в селах? Насколько видимы такие дети там?
— Мне кажется, там преобладает что-то общечеловеческое. Возможность дать ребенку образование и получить профессию — люди в маленьких городах часто этого лишены, поскольку там нет специалистов, чтобы обеспечить таким детям сопровождение, уход за ними.
Если есть что-то одно — например, ребенок начал чертить, и все, погнали, — дальше на этом строится его развитие, его образование. Можно пойти в архитектуру, делать 3D-проекты
Да, в Украине по-прежнему есть некоторые проблемы с восприятием окружающими детей с ментальными нарушениями. Например, родителями других детей, с которыми те вместе играют на площадке. Это все отсутствие культуры, — когда люди на тебя пялятся, потому что ты не такой, как другие.
Я считаю, что это проблема нашей культуры, но не проблема детей с инвалидностью. Но только лишь информировать окружение о том, что это за дети и в чем их особенности, недостаточно. Нужно повышать общий уровень культуры: книжки читать, на концерты ходить.
— Сейчас в Украине развивают идею трудоустройства людей с синдромом Дауна — некоторые компании уже берут к себе таких работников на частичную занятость. А как насчет людей с другими ментальными нарушениями, с тем же аутизмом — им реально куда-то трудоустроиться?
— От таких людей не стоит требовать выполнения сразу нескольких задач одновременно, например, уметь и машину водить, и крестиком вышивать. Но вот если есть что-то одно — например, ребенок начал чертить, и все, погнали, — дальше на этом строится его развитие, его образование. Можно пойти в архитектуру, делать 3D-проекты. Вероятнее всего, такой ребенок в будущем сможет работать в этой сфере, заниматься чертежами проектов, например.
Так что тут все зависит от того, кто что умеет и смог ли человек интегрироваться. Есть же люди с аутизмом, которые заканчивали обычные университеты.
— Донести эти идеи до родителей таких детей — чья это должна быть обязанность и миссия?
— Все это идет от семьи, от ее интересов или интересов ребенка. Наверное, это должен делать социальный работник, чья функция — найти место, где ребенок сможет развить свои уникальные способности. Во Львове это развито, а как в других городах — я не знаю. С детьми с аутизмом я познакомилась два года назад, и поняла, что все такие разные, каждый ребенок.
 В Украине по-прежнему есть некоторые проблемы с восприятием окружающими детей с ментальными нарушениями, говорит Катерина Сула, и причина этому - элементарное отсутствие общей культуры / Фото: НВ
В Украине по-прежнему есть некоторые проблемы с восприятием окружающими детей с ментальными нарушениями, говорит Катерина Сула, и причина этому - элементарное отсутствие общей культуры / Фото: НВВажно придерживаться некого плана, следовать программе. Тут начинается задача психолога, педагога — следить, чтобы ребенок был гибким, в стрессе не впал в крик, чтобы у него не было перегрузки. Порядок и расписание все любят, и детям это тоже рекомендуют. Важно, чтобы ребенок имел расписание, чтобы у него была стабильность.
— Что может помочь быстрее найти подход к детям с инвалидностью?
— Я работала не только с детьми с аутизмом, но и с другими формами инвалидности — например, с незрячими или детьми с ДЦП. Стоит обращать внимание на особенности сенсорной системы такого ребенка. Например, если у ребенка есть особенности сенсорного восприятия, не стоит назначать ему встречу, скажем, в цирке или в торговом центре, где будет много отвлекающих факторов. С незрячим ребенком не стоит проводить занятия на кухне, потому что там его «забьет» впечатлениями — различными запахами и звуками. Если работаешь с ребенком, у которого ДЦП, сперва нужно найти удобное для него положение, чтобы ему было комфортно, а потом начинать коммуникацию.
— Нередко в Украине родителям, у которых рождается ребенок с инвалидностью, еще в роддоме предлагают написать отказ. Мол, «нового себе родите, нормального». Насколько распространены сейчас такие случаи?
— Вот эта бумажка в роддоме [документ про отказ от ребенка, — НВ] — это то, что до сих пор почему-то осталось в нашей государственной системе и что необходимо искоренить. Это официальная бумажка, которую до сих пор предлагают. Как может существовать какая-либо реформа, если все еще есть это?
Инклюзия — это чтобы всем было одинаково удобно в одном пространстве, а интеграция — сделать так, чтобы ребенок в это пространство встроился
Но опять же, это не только проблема, связанная с рождением детей с инвалидностью. Случается, что при родах умирают дети, и это вообще какой-то ужас — этих матерей кладут в палату с роженицами. У нее ребенок умер, а ее в ту же палату кладут, где у других мам здоровые, живые дети на руках!
— Есть ли какие-то важные моменты, которые, по вашему мнению, нужно в первую очередь урегулировать на законодательном уровне?
— Универсальный дизайн в городской инфраструктуре. Это такое позорище. Взять те же детские площадки — нередко они опасные, там нет никакой доступности. И почему новые здания, которые строятся, не имеют универсального дизайна? Для меня это фантастика.
— Сейчас активно продвигается употребление корректной и этичной терминологии. Например, рекомендуется отходить от слов «аутист» или «даун» и заменять их на «человек с аутизмом» или «человек с синдромом Дауна». Как вы к этому относитесь? Это важно?
— В студии, где я училась в детстве, учителя всегда называли нас «солнышками». Им это было удобно еще и потому, что иногда они могли забыть имя какого-то ребенка; а так — «солнышко».
И вот я тоже стала так называть детей. Однажды общалась с девочкой с синдромом Дауна, назвала ее «солнышком» — у меня и в мыслях не было ничего плохого, но потом я слышу, что ее мама в разговоре с кем-то говорит, мол, «ненавижу, когда детей с синдромом Дауна называют «солнечными детьми», «солнышками». Затем я делаю усилие и перестаю называть ее ребенка «солнышком».
Это личная история, конкретный пример. Однако для общей культуры, для внешней политики, для официальных публичных текстов — да, это важно, потому что это двигает сюжет в сторону уважения человека и смещения акцента с его диагноза.