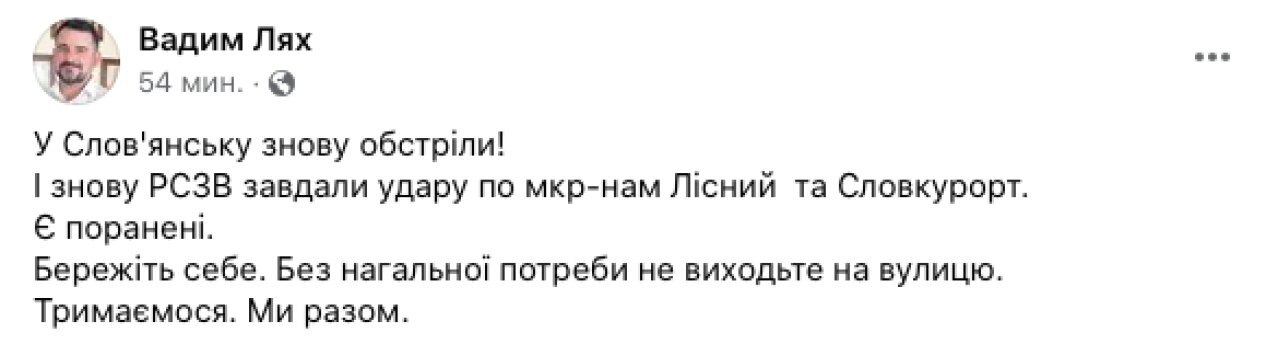Укроборонпром: Как заставить реформу взлететь
Как и все, радуюсь успехам Богданы, нескольких Нептунов и Стугн на передовой. Но любознательный наблюдатель не может не спросить, почему украинская армия не укомплектована большим количеством высокоэффективного оружия отечественного производства.
Можно вспомнить как из-за нехватки денег и непродуманности управленческих решений откладывалось в длинный ящик производство ракетного комплекса «Ольха»; «Скиф» (экспортное название ПТРК «Стугна-П»), на фотографиях которого все мы видели арабскую вязь; задержки с заказом ракетных комплексов «Нептун» и дроны, производимые исключительно частным сектором.
Оставим в стороне сложности государственного заказа, на тему которых многие рассуждали ко мне, и сосредоточимся на том, как в текущих условиях ускорить появление новых образцов вооружений и военной техники.
Первоочередная проблема — в замкнутости системы Укроборонпрома, построенной при Януковиче с целью централизованного контроля злоупотреблений. В противоположность — успех, например, глобальных высокотехнологичных предприятий базируется на коллаборациях многих участников по принципу совместимости компетентностей.
Рассмотрим, как на основе сотворчества построен процесс создания нового оружия в США. Если кратко, то это результат военно-технических разработок, связанных с оборонным планированием, в котором потребности вооруженных сил стыкуются с результатами научных исследований, техническими разработками и промышленными возможностями.
В начале этого длительного цикла стоит DARPA (Агентство передовых оборонных исследовательских проектов), которое оперирует потребностями вооруженных сил, понимает научный потенциал США и на базе этих двух компонент отбирает перспективные для национальной безопасности направления. Каждое из них Агентство превращает в исследовательские программы, выполняемые исключительно научными организациями или исследовательскими подразделениями коммерческих компаний. В общей сложности 220 действующих сотрудников DARPA ведут примерно 250 R&D-программ, результатом которых являются технологии, востребованные вооруженными силами, такие как высокоэнергетическое ракетное топливо или военная микроэлектроника (вспомним нитрид-галевые зарядки GaN).
Технологии и успешные разработки идут, с одной стороны, в промышленность, а с другой — анализируются вооруженными силами на возможность, применимость и эффективность – накладываются на текущие оборонные возможности с анализом разрывов между текущим и желаемым, в том числе по видам и образцам вооружений.
Результатом тактико-технических задач на отдельные образцы и системы вооружения, которые передаются коммерческим компаниям. Они владеют этими технологиями с последующими переговорами по заказу разработки и созданию прототипов — возможных кандидатов в новые образцы вооружений. Параллельно модифицируются доктринальные/тактические и другие документы по применению этого вооружения с учетом новых возможностей.
На основе оценки производственно-технологического потенциала и переговоров с компаниями-кандидатами (в ходе которых производится оценка стоимости жизненного цикла нового образца вооружения с учетом объема заказа, модификации в пользу разных видов, а иногда и родов войск и т.п.) отбираются компании, с которыми заключаются контракты на производство прототипов.
Прототипы проходят сравнительные испытания и вооруженные силы выбирают победителя и заключают с ним производственный контракт.
Так, по программе Joint Strike Fighter появился истребитель F-35. Его появлению предшествовали: исследование stealth-технологий, микроэлектроники и т.п.; контракт на разработку прототипа с Boeing и Lockheed Martin; избрание в испытаниях самолета Lockheed Martin и последующее производство модификаций F-35 A, B и C для ВВС, Корпуса морской пехоты и ВМС США как со стандартным, так и с вертикальным (укороченным) взлетом-посадкой.
А что у нас? Есть, например, ГККБ «Луч», руководствуясь собственным видением, выбирает перспективные проекты к реализации на базе существующих технологий и привлекает к производству мощности промышленных предприятий для изготовления отдельных компонент. По результатам испытаний право на производство/сборку нового вооружения передается одному из многочисленных убыточных и (часто) устаревших предприятий Укроборонпрома.
Обещанная реформа ОПК, которую с нетерпением ожидает страна с 2018 года, стагнирует, однако даже «на бумаге» не дает ответов на вопрос, каким образом превращение концерна в акционерное общество будет способствовать созданию цепочки инноваций и ускорению их воплощения в конкретное вооружение на передовой.
Видения перспективных рынков у отрасли нет. Договор стоимостью почти 1,7 млн грн на создание стратегии развития военно-технического сотрудничества, заключенный с подразделением Киевской школы экономики (КШЭ), был разорван по подозрению о нарушении законодательства год назад. Ни результатов расследования, ни стратегии мы до сих пор не имеем. Имеем инициативы вроде совместной с Украинским фондом стартапов программы поддержки проектов с грантом до $35 тыс. Направления поиска проектов в ней очерчены очень широко: повышение обороноспособности страны и ее быстрое послевоенное восстановление, что косвенно подтверждает мнение об отсутствии стратегических приоритетов.
В то же время, десятки украинских коммерческих предприятий успешно создают и поставляют на службу ВСУ новые высокотехнологичные решения, такие как системы управления артиллерией, комплексы для наведения минометов, беспилотники, комплексы радиотехнической разведки и т.д. Часто это социальные инициативы бизнеса, или проекты созданные за деньги, собранные волонтерами. Представьте, какие масштабы могла бы приобрести эта деятельность, если бы получила государственное финансирование и стратегический фокус.
«Симпатики» украинских частных изобретателей злорадствуют о том, что эти военные инновации по многим критериям уступают западным и азиатским аналогам. Однако они уже сейчас в разы повышают возможности боевой техники ВСУ.
Итак, у нас есть зародыш экосистемы частных военных техно-инновационных предприятий, которым не хватает:
1. стратегического фокуса в интересах страны (с учетом возможностей мировой науки);
2. производственных мощностей (в то время как государственные предприятия оборонного комплекса не загружены на 100%);
3. государственной поддержки (де-факто уже успешных действий).
Решение, которое устроит все стороны — сохраняя контроль над направлениями производства на уровне производственных планов и государственного заказа, отдать мощи государственных оборонных предприятий частным партнерам. Более того, определить успешное исполнение обязательств одним из критериев для возможной передачи предприятий в собственность по завершению войны.
Остается два вопроса.
Не станет ли подчиняющееся Кабмину акционерное обществ «Украинская Оборонная Промышленность» точной копией государственного концерна «Укроборонпром» со всеми вытекающими последствиями.
И найдется ли в Украине стратег по военным инновациям, способный возглавить наш аналог DARPA? Не уверен. А может лучше пригласить для этой работы экспертов именно из DARPA? Во времена, когда реформа и скорость ее реализации не просто ко времени, а залог выживания нации.
P.S. Автор в теме и сознательно упрощает некоторые аспекты для повышения доступности представленной информации широким массам читателей.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.