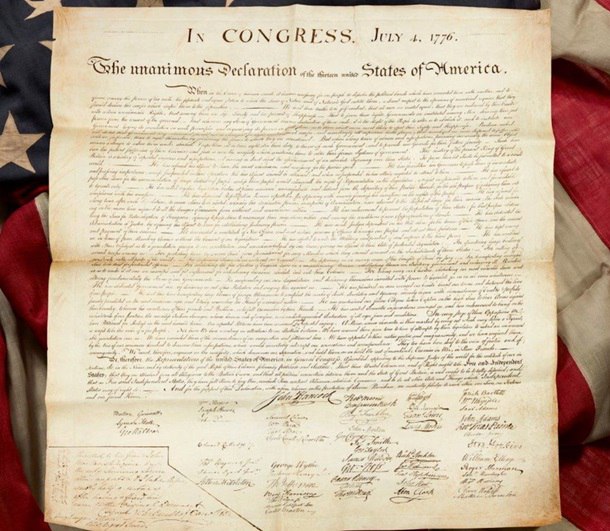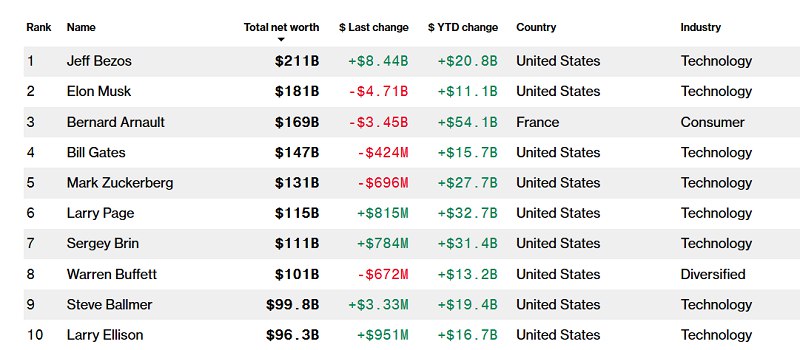Тот, кто прошел через ад. Интервью Сергея Жадана с журналистом Станиславом Асеевым, бывшим узником «ДНР»
Журналист и бывший узник «ДНР» Станислав Асеев дал большое интервью НВ. Почти два года назад он был освобожден из плена боевиков, находясь в котором прошел печально известную тюрьму Изоляция, по условиям сравнимую с концлагерем.
Бывший житель Макеевки Асеев регулярно освещал реалии жизни в оккупации, публикуя свои статьи в украинских изданиях. Террористы схватили его в мае 2017 года и «приговорили» к двум срокам — по 15 лет каждый. Из плена журналиста освободили в рамках обмена в конце 2019 года.
Писатель и ведущий авторской программы на Радио НВ Сергей Жадан спустя два года поговорил с Асеевым о том, что для него значит война на Донбассе, двух реальностях по разные стороны фронта и ужасах Изоляции.
Публикуем сокращенную и отредактированную версию их разговора. Полное интервью слушайте на платформе НВ Подкасты и на YouTube-канале Радио НВ.
Слушайте подкаст на эту тему
— Мы с вами недавно участвовали в виртуальном телемосте с немецкими «зелеными». И время от времени в вашем Фейсбуке я встречаю новости, вы общаетесь с европейскими политиками.
— Иногда бывает.
— Какие у вас ощущения от этого? Вы больше видите у них заинтересованность или какую протокольную вежливость?
— Нет, это абсолютный формализм. Они очень устали от вопроса Украины. Более того, они имеют очень мощное российское лобби — прежде всего во Франции, также оно есть в Германии, — и пытаются любым способом построить отношения с Российской Федерацией. Украина им в этом смысле мешает, потому что все понимают, что Россия нарушает права человека, это агрессия, это война. Но это тема, от которой они уже действительно устали.
— У меня тоже двойственное впечатление от всего этого, ведь не надо быть большим русофобом, чтобы видеть все, что творит Россия. А с другой стороны, иногда очень удивляет граница компромисса, которую переступают европейские политики. Вы, кажется, позавчера встречались с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде — разговор касался, в частности, Изоляции, да?
— Да.
— Это факт, что ОБСЕ знает о существовании Изоляции.
— Знает, но здесь вопрос в том, на каком уровне. Кстати, во время встречи с госпожой Линде не было ощущения формализма, то есть она действительно занимается этой проблемой и пришла на встречу уже зная, что такое Изоляция. Ей не надо было объяснять.
Но ОБСЕ — это не только госпожа Линде. Здесь многое зависит, например, от Тони Фриша, который в частности модерирует вопрос Изоляции в гуманитарной подгруппе в Минске, и он элементарно не может добиться от них «да» или «нет». Прошел уже год с того момента, когда мы официально поставили вопрос Изоляции летом 2020 года, и мы до сих пор не имеем никакого ответа от этих людей. Поэтому я очень надеюсь, что эта встреча на что-то повлияет.
Однако у меня все чаще появляется чувство стыда за то, что я рассказываю это разным политикам, ведь я прекрасно знаю, что этот человек знает об отравлении Скрипалей, о сбитом Боинге, о подорванных складах в Чехии, об отравленном Навальном… И в то же время госпожа Меркель недавно вышла и сказала: «Нам надо строить отношения с Российской Федерацией», — а французский президент ее поддержал. И здесь еще выходит Асеев и говорит: «Ну еще есть Изоляция, есть пытки, есть концлагерь». — «Конечно, мы сочувствуем, но у нас там Северный поток».
— Мне кажется, это вопрос не столько нашего разочарования, сколько того, что украинцы должны понять, что за нас никто не будет решать наши проблемы.
— Должны бы. Но даже исходя из того, как украинское общество сейчас воспринимает войну, я вижу, что этого понимания до сих пор не существует. За семь лет войны оно не пришло в сознание подавляющего большинства нашего населения. Да, есть небольшая прослойка людей, которые занимаются этим вопросом, — люди, которые служат, у которых кто-то погиб на фронте, волонтеры и др. Но большинство общества живет какими-то другими смыслами, абсолютно прагматичными.
Чем дольше длится конфликт, тем меньше отношения к нему имеет рядовой гражданин. Например, я — человек, который всего полтора года на свободе и полтора года рассказывает об Изоляции — уже устал от этого. Я уже ненавижу Изоляцию, ненавижу вообще эту тему, но должен это делать по определенным причинам. А наша война продолжается уже семь лет, и конечно, люди скорее включат какую-то развлекательную передачу на 1+1, чем снова будут слушать Асеева о пытках и Изоляции. Это определенный механизм защиты психики от того, что происходит, и обычное равнодушие. Но это касается не только Украинского государства — так работает психика вообще любого человека в любой стране.
— В ситуации с Изоляцией есть какая-то страшная, дьявольская метафорика в самом этом названии. Оно происходит от завода изоляционных материалов, затем он превратился в артцентр Изоляция, а сейчас это ужасный концлагерь. То есть люди действительно сидят там в изоляции.
И если у нас слово «Изоляция» за последний год ассоциируется прежде всего с пандемией, когда мы сидим дома и смотрим фильмы; а люди в Донецке, если они попадают в Изоляцию, то они попадают в концлагерь.
— И также это информационная изоляция. Изоляция — это вообще уникальное место в том смысле, что через нее можно показать, что в целом случилось с этой территорией: артфонд и культура при Украине; и фактически концлагерь — при Российской Федерации, полная информационная изоляция, ужасные вещи, пытки. Это символ того, что произошло на той территории. Я уже не говорю об улице Светлый путь, где находится Изоляция.

Изоляция — это такой маленький Донбасс, где намешаны абсолютно все. Там «сидят» боевики, проукраински настроенные люди, перевозчики, женщины — все подряд.
— Очевидно, в первый год оккупации изменения, которые происходили в Донецке, не совпадали с изменениями по эту сторону линии фронта. Я говорю даже не о политике, а о политических предпочтениях, механизмах сосуществования людей. Расскажите, — когда ты живешь в городе, наполняющемся вооруженными людьми и находящимися в определенной осаде, это, пожалуй, совсем другие реалии?
— Конечно. В первые годы войны я жил в Макеевке, и там действительно происходил сюрреализм, потому что даже между Донецком и Макеевкой стоял блокпост. Это гетто не назовешь, но в 2014 году для того, чтобы доехать в Донецк, ты должен пройти два блокпоста сначала на Горностаевской, а потом у Мотеля [диспетчерская станция, — НВ], где у тебя проверяют документы какие-то люди с пулеметами, хотя еще несколько месяцев назад это даже было невозможно представить. Я весь 2014 не мог привыкнуть к тому, что происходит: ты выходишь из дома, а там стоит сплошная стена шума из ракет, Градов, каких-то минометов, и это происходит круглосуточно. Да, это было трудно.
— Наверное, еще одним страшным феноменом является то, когда общество — жители и общественность города — предстает перед реальностью войны. Сегодня ты можешь выходить на митинги и отстаивать свое мнение, что-то кричать, не соглашаться, писать посты в Фейсбук, а завтра у тебя эта возможность исчезает, поскольку начинается война. Как город это воспринимает, как это можно прожить?
— Мое окружение это восприняло очень специфично. Только у них появилась возможность влиться в эти незаконные вооруженные формирования, все мои сверстники туда пошли. Я специально считал — 21 человек из моего дома в Макеевке. И это все люди, с которыми я рос, прожил всю жизнь. И конечно, их семьи в этом их поддерживали. Более того, даже люди, которые шли к Стрелкову, и Безлеру [донецкие террористы, — НВ], то к этому спокойнее относились, чем их родители, которых я встречал в Макеевке. Это действительно было какое-то зомбирование — настолько мощной была пропаганда, они вдруг просто начали ненавидеть все связанное с Украиной. Я видел, как люди меняются на глазах.
Читайте также:

Питер Дикинсон Интеграция Донбасса? Что планирует Путин
— Пожалуй, одна из самых страшных вещей, — это когда в общество попадает вирус гражданского противостояния. Это то, о чем Россия говорит с самого начала — «у вас гражданская война». И в эту воронку специально втягивают множество граждан Украины, которые настраиваются друг против друга. Можно ли в будущем говорить о чем-то с людьми, которые воевали против нашей страны? И если да, то каким образом?
— Я с ними говорил даже в 2015—2016 годах, когда они возвращались домой. Они, конечно, тогда не знали моих взглядов и не знали, что я занимаюсь журналистикой. Но прежде всего с профессиональной точки зрения мне было интересно, за что они воюют. Должен сказать, что они все воевали за Российскую Федерацию — то есть ни о какой «республике» там не шла, потому что в 2014 году все были убеждены, что буквально на следующей неделе снова будет «референдум», но на него уже вынесут вопрос о вхождении в Российскую Федерацию, будет как с Крымом. Такое боевикам рассказывали в их частях. В 2015—2016 годах, конечно, они уже тоже были уставшие от этой войны, ведь очень многое увидели на фронте и понимали, что что-то складывается не так, как они это себе представляли. Но относительно «республики» там иллюзий не было.
Из тех 21 человека по состоянию на начало 2017 года, когда я был на свободе, уже никто не воевал. Несколько погибли, но в основном они уволились и сказали «Я шел не за это». В 2017 их уже просто ставили охранять какие-то склады. Эти люди говорили, что не видят смысла продолжать дальше, и просто начали зарабатывать деньги тем, чем зарабатывали и до войны: кто-то на шахту пошел работать, кто-то вагоны грузил… Я всегда спрашивал их: а зачем же вы три года воевали? Вы же понимали, что, во-первых, вас могли убить; во-вторых, вы убили людей и ничего не получили. А что они могут сказать? «В 2014-м мы думали, что будет Россия. Сейчас России нет, и уже очевидно, что не будет».
— То есть вы говорите, что многие шли воевать, видя в какой-то короткой перспективе присоединения к России. И вместе с тем через телеканалы, радио и медиа вообще активно насаждались и насаждаются до сих пор тезисі о «русском мире».
— Я жил в этом «русском мире» — просто никто это не осознавал. Это происходило через кинематограф, через музыку, которую мы слушали; через язык — потому что на украинском я вообще ни дня в жизни не разговаривал. Да, мы его изучали, но все были русскоязычными. Я начал общаться на украинском только после освобождения. И если ты сейчас рефлексируешь над этим, то понимаешь, что все это в совокупности дало то, что мы получили в 2014 году.
 Камеры в Изоляции, в которых содержат заключенных, не имеют даже нар — их роль выполняют деревянные поддоны / Фото: DR
Камеры в Изоляции, в которых содержат заключенных, не имеют даже нар — их роль выполняют деревянные поддоны / Фото: DR— Я бы хотел вспомнить ваш недавний комментарий в отношении Романа Протасевича, который вы дали после его «Интервью» государственному телеканалу. Хочу поговорить с вами вообще о существовании в нашем мире таких вещей, когда государство просто останавливает самолет и захватывает своего гражданина, фактически держит его в заложниках. И это Европа, XXI век.
— Это продолжение того, о чем я говорил: Скрипали, сбитый Боинг, и в этот ряд еще встал Протасевич. Все всё понимают, все всё знают, это такая общая обеспокоенность, есть санкции со стороны отдельных стран, но глобально ничего не происходит. У нас нет механизмов коллективной защиты от таких ситуаций и их предупреждения. То есть нет гарантий, что завтра Лукашенко или Путин такое не сделает. К сожалению, это реальность.
— Мне скорее интересно ваше мнение о белорусском обществе. Оно же видит, что происходит, и здесь не надо быть аналитиком — ты становишься на сторону одной или другой стороны. Как должны были на это реагировать белорусы?
— Я не думаю, что все настолько очевидно, именно потому, что имею опыт жизни в Донецке. Когда обстреляли остановку Боссе и там погибло очень много людей (сгорел троллейбус), люди из этой системы («МГБ», сами боевики) знали, что это сделали казаки, ведь этих людей задержали и затем убили. Я встретился с пострадавшим от этого обстрела человеком в Изоляции. Он мне говорил, что стреляли не со стороны аэропорта, что это были небольшие снаряды, открывали огонь где-то рядом. Я спрашиваю: «Ты когда-то рассказывал об этом?» И он мне сказал: «Стас, да даже если выйдет этот казак и скажет „Это я сделал“, никто не поверит». Там уже совсем другая реальность. Я уже не говорю о том, что они ежегодно устраивают реквием памяти жертв «украинской агрессии» на Боссе. Я именно поэтому и вспомнил, что с Протасевичем та же ситуация. Нам в Киеве понятно, в какой ситуации он оказался, что его даже не надо пытать, ведь рядом держат его любимого человека, — но на этом все заканчивается. Однако я абсолютно уверен, что в Беларуси все наоборот — там все выглядит, как Боссе в Донецке.
— Если говорить об опыте войны и опыте оккупированных территорий, но отойти от политических и идеологических вещей, то в человеческом измерении — это о чем? О том, как у нас много все-таки остается человеческого, или о том, как много у нас бесчеловечного? Война как состояние активной массовой ненормальности — это о чем?
— Для меня эта война — наверное, как и большинство конфликтов между людьми, — это глубоко личностное. Поэтому я бы не говорил обобщенно. Для меня это снег, который мы должны были топить в ведре, когда не было воды во время обстрелов. Для меня это сумка, которую мы хранили, чтобы в случае чего спуститься в подвалы… То есть это вещи, которые ты сам вспоминаешь, но не можешь обобщить. И если мы посмотрим на мировую культуру, на освещение конфликтов, то в кинематографе первые места всегда берут фильмы, которые показывают индивидуальную историю войны, а не какую-то общую историческую концепцию. Сразу вспоминается Пианист. Поэтому для меня это что-то глубоко личностное.
Можно, конечно, рассуждать, почему Гиркин-Стрелков пришел в Славянск, сколько людей он набрал, кто они; но для меня важнее помнить своего друга детства, у которого вечером одного из дней 2014 светились глаза от того, что он завтра уезжает к этому Гиркину в Славянск. Я вообще не понимал, что происходит, — как так? Ты же вчера еще работал на шахте, а завтра едешь воевать — зачем?
— Вы говорили, что в Донецке, Луганске, Макеевке, Горловке выросло поколение детей, которые в этом году идут в школу, — но не в украинскую. Если говорить стратегически, как этих детей возвращать?
— Никак. Сейчас мы не имеем на них никакого влияния. Я еще в 2015—2016 годах предлагал работать хотя бы с населением на блокпостах, которое пересекает линию разграничения, потому что это сотни тысяч человек в месяц. Никто ничего не поддержал. А сейчас все блокпосты вообще закрыты. Я буквально позавчера смотрел присягу «юнармейцев» в Донецке — слушайте, это даже не Россия, а какой-то Советский Союз образца 1970-х годов. Они все в галстуках, красных беретах… Абсолютно другая реальность. Я даже не представляю, что этот ребенок, когда возвращается домой, думает об Украине.
— Если говорить объективно, на самом деле эти семь лет — это не просто существование фронта, это существование двух реальностей. И если пробовать говорить с прицелом на будущее, очень трудно представить, как все это может нормально сосуществовать. Например, ежедневное бытовое общение. Вы когда-то об этом думали?
— Я постоянно об этом думаю. Но у меня нет никакого ответа. Я думаю, что такой вопрос вообще не появится в ближайшие 10 лет, то есть нам никто ничего не отдаст. Во-вторых, у нас нет никакой гуманитарной программы, чтобы «сшивать» эти раны. Я сам не понимаю — если я завтра приеду в Макеевку, пусть меня там не арестуют, пусть не арестуют людей, которые несколько лет воевали против Украины, но когда я их встречу на одной улице, то что мы скажем друг другу? Они знают, что я 2,5 года отсидел за проукраинские взгляды, меня пытало их «МГБ»; я знаю, что они воевали с той стороны…
В этом смысле, пожалуй, можно сказать, что Россия победила. Они так или иначе вытолкали нас — проукраинский элемент — оттуда. Кто-то уехал, кто-то через обмен, и мы понимаем, что не имеем пути к возвращению туда, даже если завтра освободим ту территорию. Люди с пророссийскими взглядами там останутся, они и дальше будут ненавидеть Украину (или по крайней мере не понимать ее), а я с проукраинскими взглядами не могу вернуться в Макеевку или Донецк по многим причинам.