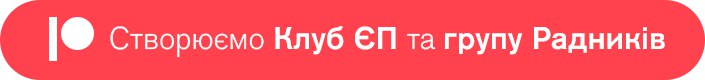Памятник Тарасу Шевченко в освобожденной после российской оккупации Балаклее (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Памятник Тарасу Шевченко в освобожденной после российской оккупации Балаклее (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)«Сидели в клетке». Рассказ учительницы из Балаклеи — о пребывании ее семьи в плену и запугивании оккупантов
8 сентября Вооруженные силы Украины освободили от российских военных после полугодовой оккупации Балаклею в Харьковской области. Тогда Виктория Щербак, местная учительница, впервые плакала от счастья.
Она не только жила в оккупации, но и вместе со своей семьей попала в пыточную, организованную россиянами в городе. Ее заставляли сотрудничать с оккупационными властями и даже угрожали изнасиловать дочь на ее глазах.
В эфире Радио НВ Виктория рассказала, как ее семья попала в плен, какими методами оккупанты пытались ее запугать, а также о том, как семье удалось спастись.
Об обстоятельствах задержания
Мы не в первый раз собирались уезжать — собирали вещи. Мой муж поехал на блокпост за лекарствами — он помогал ввозить лекарства в Балаклею, как волонтер. В нашем частном доме дверь не закрывалась, наш двор был открытым. Мы были внутри, дома. Вдруг зашли пятеро автоматчиков, в полном военном экипе (экипировке — ред.) — в брониках, касках, в балаклавах и с автоматами. Пятеро в наш небольшой домик. Конечно, мы немного испугались.
Первая мысль была спрятать телефон, потому что я боялась, что там они что-нибудь найдут. Накануне я почистила кэш, потому что собиралась уезжать и знала, что телефон должен быть чист. Но за дочь я не была уверена. Так и вышло.
Спросили: Щербак? То есть моя фамилия. Да я поняла, что пришли за мной. Мужа с нами не было, а у моей дочери другая фамилия поскольку она приемная. Нас вывели на улицу почти раздетых, потому что мы дома были. На улице было холодно, дождливо. Там стояли еще двое [автоматчиков] — то есть семеро автоматчиков на нас двоих — девочка и я.
 Недавно освобожденная Вооруженными силами Украины Балаклея / Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS
Недавно освобожденная Вооруженными силами Украины Балаклея / Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERSЯ говорю: «А что вас так много? Мы террористы какие-то? Чего на двух женщин так вас много? Еще и на трех машинах приехали за нами». Но он не считался с моими вопросами. Забрал телефоны и документы. Единственное, что там осталось и что ему не понравилось в моем телефоне — моя фраза: «Мы в оккупации».
Я не знаю, за что нас задержали. Поскольку единственное, что мы услышали в свой адрес: не нравится нам ваша семейка. Это было единственное объяснение.
[Диалог был таким]:
— Вот вы пишете, что вы в оккупации.
— А де ж ми? Звісно, ми в окупації.
— Но мы же вас освобождаем!
— А я не просила мене звільняти абсолютно. Я тут живу, це моя земля, ви сюди прийшли. Звісно, ми в окупації.
— Понятно, а кто это — Вика Захарова?
Вика — это моя дочь приемная, мне в телеграм высылала очень много разных фото, о Путине, такое все против Раши. В тот момент уже не было практически ни связи, ни интернета. Но кое-что прогружалось иногда, когда появлялась такая возможность.
— Це моя донька, а що таке?
— Плохо вы ее воспитываете. Посмотрите, что она вам шлет.
— Я не знаю, що вона там присилає, я не читаю, мені ніколи, у нас немає інтернету.
— Ну вот вы нас здесь называете орками, свинособаками.
— Я не називаю.
А сама себе думаю: я бы тебе сказала, как я вас называю! Но ведь я понимаю, что не надо нарываться.
— Идите собирайтесь!
Ага, собирайтесь, думаю, понятно. У Вики моей [дочки] также забрали телефон и начали его изучать. Я это уже поняла, когда зашла в дом.
Я сразу начала одеваться — теплый костюм, взяла рюкзак, воды. Оставляла, что было из еды, таблетки, поскольку я инвалид ІІІ группы, перенесла инфаркт. То есть, все нужно.
А к Вике, как говорят, у них была целая куча замечаний, поскольку она ничего не стерла. Они все читали и сказали: не нравится нам ваша семейка.
А тут и муж подъехал, к сожалению. Я очень сожалела, что он подъехал, потому что тогда же сразу забрали его. Его телефон был вообще чист, но это уже не считалось. Ему не дали даже собраться. Мы хоть что-то побросали с собой, а его, как был, так и забрали. Нас втроем усадили в машину с решетками на окнах. Кроме нас там было еще два человека и женщина-соседка, которая жила через несколько домов от нас.
Об условиях пребывания в плену
Нас отвезли в балаклейский подвал с мешками на голове. Посадили в клетку. В подвале были специальные клетки. Я сегодня и вчера даже в новостях видела такие клетки в Купянске. И у нас были такие же. Они наверняка привезли их специально для людей. В них нельзя было лежать. Были просто сиденья, и нас туда усадили вчетвером. И мы сидели.
Мы увидели там только одного человека — всего окровавленного. Он был очень избит и весь в крови. Мы провели там приблизительно три часа. Не знаю сколько точно, поскольку у нас уже не было ни телефонов, ни документов. У моего мужа забрали все — рюкзак с правами, документами на машину, потому что он на ней приехал, ключи — все было изъято.
Потом нас перевели в полицию. В полиции, насколько я поняла, было несколько этажей подвалов. Мы с дочерью сидели в полуподвальном помещении. И было еще три женщины. Мы сидели впятером в двухместной камере. Одна девушка, моя ученица, 22 года, спала на полу, а мы по двое лежали на очень узких деревянных топчанах. Очень воняло, поскольку не было ни воды, ни воздуха. Свежий воздух вообще не поступал, а туалет находился прямо в этой камере.
Как я уже потом узнала, мой муж несколько недель сидел в подвале. Буквально вчера я увидела на видео этот подвал — страшный, мокрый, сырой. Он потом мне рассказывал, что вода текла прямо по стенам. И лечь даже на пол вообще нельзя было, потому что вода там стояла. Их в небольшой камере сидело семь человек. Они сидели по очереди на топчанах.
Нас кормили всего раз в день. Мой ребенок впервые поел через сутки. Нас забрали в 11 утра, и на следующий день в 12 часов я уже начала стучать в дверь и требовать еду и воду. Потому что нам давали только два литра воды на камеру. Представьте себе! Надо было и в туалет сходить, и попить. Хорошо, что я догадалась взять с собой пол-литра воды. Я понимала, куда я иду. Это нам очень помогло.
О допросах и попытках принудить к сотрудничеству с оккупантами
Я думаю, что самая главная цель — запугать, поскольку я никогда не скрывала своей любви к Украине. Свою страничку на Facebook я не успела убрать. Интернет у нас пропал очень внезапно, я не смогла этого сделать. Я постоянно помогала, как могла, украинской армии. Как могла, звонила, рассказывала, фотографировала, отсылала своим ученикам. У меня очень много знакомых учеников, которые находятся в ВСУ. То есть все, что я могла, я делала, пока была связь.
Почему в тот момент мы уже хотели уехать? Потому что я уже поняла, что нас, местных учителей, заставляют работать. Уже с июня некоторые из моих коллег даже пошли на работу и предложили свои услуги в администрации как учителя. Я этого не могла допустить.
То есть я могла говорить, кивать головой, что «да, да, я буду петь с 1 сентября» (я еще и певица и на радио что-то вела немного, поэтому меня люди знали). Я могла говорить все, что угодно. Но о том, что я думаю, понимала, кому это могу говорить, а кому не могу.
Но были знакомые, которые меня очень хорошо знали. И, наверное, кто-то из них, кто знал, где мы прячемся… Мы жили в другом месте, не там, где прописаны, мы прятались в таком месте, что мало кто знал, где мы живем. Я так подозреваю, кто это мог сделать, но никаких доказательств, конечно, у меня нет.
Я увидела на допросе, что их постоянно интересовало мое мнение: как я отношусь к тому, что здесь всегда будет Россия? Буду ли я работать? О чем вы мечтаете? На допросе я пыталась говорить то, что думаю. Максимально искренне отвечала на вопросы.
 Пыточная в Балаклее / Фото: Марианна Безугла/ Facebook
Пыточная в Балаклее / Фото: Марианна Безугла/ FacebookДопрос вели трое. Первый — это пропагандист, как я назвала его, он рассказывал «Мы очень любим украинцев, мы уважаем, какая у них музыка, какая культура, они такие добрые, немного испуганные».
— Вот чего вы нас боитесь?
— А чего бы я могла не бояться? Я сижу в тюрьме, нахожусь сейчас на допросе, трое мужчин с оружием меня допрашивают, как я могу не бояться?
— Да ведь мы с вами столько прошли. Вы ведь родились в Советском Союзе.
Он минут 15 мне промывал мои, уже не такие молодые, мозги, чтобы меня сбить с толку. Простите, я даже [заскучала], слушая его. И, должно быть, что-то в моих глазах уже мелькало. Я не следила за своим лицом.
Дальше второй уже включился и начал угрожать: «На самом деле вы нас не боитесь». Он постоянно следил за моими реакциями, анкету вел. Я видела, что он ставил галочки какие-то, все он отмечал. И сказал: «Вы нас презираете». Я думаю, что он почувствовал мое подлинное отношение к ним, это было очень трудно скрыть, по глазам видно. И действительно, я не боялась. Какая-то ненависть, должно быть, мелькала в моих глазах.
Прозвучал еще раз вопрос:
— Что вы хотите?
— Я хочу выжить.
— Все этого хотят. А вот именно вы?
— Я хочу домой.
— А о чем вы мечтаете?
— Мечтаю, чтобы нация моя украинская, несмотря ни на что, выжила, чтобы украинцы остались как нация, если вы меня понимаете.
— Конечно, мы вас понимаем.
И стал угрожать. Они хотели, чтобы я на них работала — шла в школу, потому что я по второму образованию учительница русского языка — не только английского, но и русского. Мне, преподавательнице русского языка, сказали: «У вас еще запрещался русский язык».
То есть они во мне видели учительницу русского языка. Я отвечала:
— Абсолютно не запрещался. В нашей школе и вообще в нашем городе русский язык преподается, как во всей Харьковской области, дважды в неделю, как и украинский язык, совершенно одинаково. В нашем городе есть русская школа №2, если вы не знали.
— Значит, в других городах запрещается.
— Что касается других городов, я не знаю, я могу говорить только о своей Харьковской области. Я хочу учить украинских детей! Это моя работа, я буду их учить.
Но я не сказала, что буду учить в оккупации. Хотя и учу их сейчас! Я учила, буду учить, и это моя любимая работа — учить детей. Потому я так и ответила.
Об освобождении из-под «ареста»
Они меня не отпустили. Когда они мне начали угрожать, бить и насиловать мою девочку перед моими глазами, тогда уже… К сожалению, у меня сердце не выдержало — я потеряла сознание, упала на пол. Они начали, наверное, меня приводить в чувство… Когда не удалось, видимо, они вызвали скорую. В скорой наши ребята уже сделали все, чтобы вывести меня отсюда. Они сказали, что у меня был уже инфаркт, что предынфарктное состояние снова и забрали меня на скорой.
Двое кадыровцев мою девочку привели ко мне уже туда, на скорую. Мы находились под капельницами, и это действительно требовалось мне. Потом я еще несколько недель не могла прийти в себя. Да и сейчас тоже, если честно.
Моего мужа выпустили спустя еще две недели. Он больше двух недель сидел в тюрьме, но ни разу его не вызывали на допрос. Ни одного. То есть вообще непонятно, что, почему и как. Когда его отпустили, сказали: «Благодари свою жену, которая ходила за тебя, просила». А я там была каждый день. Я ходила по всем инстанциям, просила, просила и выпросила. Но даже когда выпустили мужа, ни документов, ни телефонов нам так и не отдали.
О выздоровлении после оккупации и отношениях с местными
Я считаю, что это очень тяжело. Поскольку примерно треть населения больны. Эти люди уже давно больны. Я боюсь, что эта бацилла рашизма уже глубоко проникла в мозги многих, неизлечимая. Нужно работать начиная с детей. Школа и культура. Это архиважно! Чтобы именно в школе и культуре работали люди, которые понимают важность национального воспитания. Сами любили Родину, разговаривали на украинском языке и воспитывали наших детей! Если оставить все так, как было, то мы снова к тому же и вернемся.
У меня есть знакомые, достаточно хорошо знакомые люди, которые сотрудничали и даже очень тесно сотрудничали с рашистами. Я считаю, что это кошмар. Это измена. И мы очень тяжело с коллегами пережили это предательство некоторых наших коллег.
Об освобождении Бакалеи
Я узнала об этом еще 6 [сентября], когда еще никто не знал. Поскольку, как я уже сказала, у меня есть знакомые в ВСУ. Мне позвонили, сказали, что уже происходит зачистка прямо в центре Балаклеи. Уже в полдесятого, шестого сентября, я написала своим коллегам о том, что передовые отряды, спецотряды украинской армии уже находятся в Балаклее, что уже будут заходить регулярные войска.
Так и вышло. В тот день я плакала. Мы все уже не могли работать. Живущие в Балаклее находили возможность общаться между собой, со своими родственниками, поэтому уже с 6 сентября мы знали, мы не могли работать! У нас были слезы. Слезы счастья! Я плакала от счастья впервые.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.