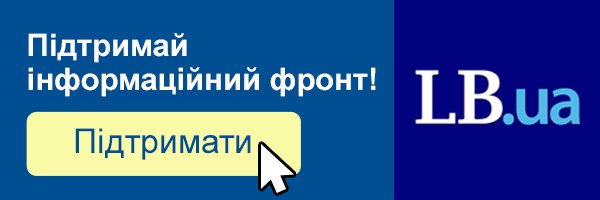Андрей Дахний (Фото:Andriy Dakhniy / Facebook)
Андрей Дахний (Фото:Andriy Dakhniy / Facebook)«Путин идет вперед с головой, повернутой назад». Разговор с философом Андреем Дахнием — о русском мире и роли Достоевского в его появлении
Доктор философских наук, переводчик Андрей Дахний в интервью Радио НВ рассказал, какие российские литераторы-классики лелеяли ростки нынешнего ужасного режима, можно ли назвать Россию религиозной страной и как на украинцев повлияла жизнь в российской модели несвободы.
С философом беседовал историк Виталий Ляска.
Виталий Ляска: Сегодня будем говорить о философии прошлого и настоящего России. Философии, которая, вероятно, плавно перетекла в эту ужасную идеологию, с которой имеем дело, и которую, безусловно, должны знать. Ибо врага нужно знать в лицо, не прятаться от него, не говорить, что его нет, что нам он не интересен. Это такое, скажем, научное исследование. И тогда будем знать, как с ним бороться не только на фронте, но и в пространстве идей. Когда с начала войны я общался со многими европейцами, у них всегда было два вопроса. Первый — почему Россия на вас напала, а второе — почему вы не уступите ей то, чего она хочет. Второй вопрос для нас сложный, болезненный, непонятный. Но вот этот первый вопрос — почему Россия на нас напала. Конечно, можем говорить о стремлении захватить территории, как можно больше человеческих ресурсов, но есть, очевидно, какой-то идейный фундамент, на котором все это держится?
Андрей Дахний: Прежде всего, я бы обратил внимание на то, что в истории России, начиная с Ивана III, это XIV — начало XV века, всегда была воля к экспансии, к экстенсивному развитию, расширению территории. Московское царство все увеличивалось, причем историки посчитали, что примерно за год, вплоть до XIX века, территория России росла на размер современной Голландии. Да, Голландия не такая большая страна, но каждый год на Голландию! Поэтому, я бы сказал, существует некий первородный грех или врожденный порок, свойственный этой цивилизации — вот это влечение к приращению земель. Причем, мы видим в новейшей истории, их мало беспокоит, как эти территории будут развиваться. То есть мы видим Южную Осетию, Абхазию, Приднестровье, Донбасс, наблюдаем, каким упадком сопровождается существование этих территорий. Но тем не менее о желании во что бы то ни стало овладеть все большей частью земли мы можем говорить как о постоянном сопроводительном моменте.
В свое время Александр Архангельский говорил, что «мы большие — но не великие». Расширяемость не обязательно свидетельствует автоматически о величии, поэтому мы действительно говорим о количестве, но в качестве безусловно они прогорают. И это продолжалось, еще раз подчеркиваю, очень давно. И при этом здесь есть милитарный момент, та агрессия, которая неотвратима в ситуации, когда есть стремление к расширению территорий.
В.Л.: До боли напоминает золотоордынское наследие, которое Москва переняла. Золотая Орда также за счет активного захвата территорий двигалась экстенсивно, ни о каком развитии территорий речь не шла. А если говорить об идеях? Для меня было очень сильным удивлением, когда почитал текст Тимофея Сергейцева, изложившего в РИА Новости план денацификации Украины. Я стал узнавать о нем и выяснил очень интересные вещи. Что это не просто так делается, это не просто пиарная или политическая технология, а очень основательная философия, которая базируется на наработках Георгия Щедровицкого и его сына Петра. Фактически Петр Щедровицкий был идеологом русского мира еще в начале 90-х годов. Человек очень и очень непростой, очень влиятельный, по крайней мере в идейном смысле, на своем сайте он пишет, что видит залог успеха в том, чтобы вернуть России философию. По вашему мнению, что этот российский идеолог имеет в виду? И что это за философия, почему ее нужно возвращать? Она куда-то подевалась?
А.Д.: Я бы начал с Тимофея Сергейцева. На самом деле это очень радикальная позиция. Многие исследователи и аналитики отмечали, что она напоминает почти дословно идеологию национал-социалистов, их лексикон, когда речь шла об окончательном решении еврейского вопроса. Сергейцев очень перекликается с ними в этом смысле.
Насколько Щедровицкого можно рассматривать здесь? Безусловно, это где-то одна традиция. Другое дело, что отец Петра Щедровицкого больше тяготел к нейтральным, методологическим проблемам, теоретическим вопросам: сознание, мышление и т. д. Младший Щедровицкий, да, он действительно говорит о возвращении, как вы сказали, ценностей в Россию. И я думаю, что идея вернуть философию России, как он это формулирует, какая-то имманентная, особая, очень специфическая, спасительная, мессианская. Сама по себе философия предполагает плюрализм, свободомыслие, инакомыслие. Это уже мало входит в парадигму того, что сейчас называем русским дискурсом, в том числе исповедуемым такими людьми, как Щедровицкий-младший.
Вы очень справедливо отметили преемственность и родство с Золотой Ордой. Если мы вдумаемся, то этот милитарный дух, эта установка на экспансию здесь очень хорошо перекликается. Скажем о четырех китах этой цивилизации, которая, в принципе, при Чингисхане уже очень хорошо работала. У него плохая репутация, у Чингисхана, но то, как он построил государство от Тихого до Атлантического океана, эта Золотая орда — это действительно удивительно мощная цивилизация. По крайней мере, в плане экспансии. Эти четыре момента — прежде всего, жесткая вертикаль власти, централизация, иерархия. Второе — это сакрализация правителя. Третье — это сакрализация государства, государство — все, человек — ничто. И, наконец, законы, которые не выше воли великого правителя, хана, царя и так далее. То есть, в этом отношении, я думаю, как раз это философия, призванная обслуживать государственные, властецентрические попытки утвердить любой ценой определенную мощь и ее расширить, несмотря ни на что.
В.Л.: Разумеется, это философия, которая легла в основу русского мира. Но русский мир — что это? Потому что мы очень часто волей-неволей упрощаем русский мир до слов Суркова, что он там, где говорят на русском языке вне России, где царит русская культура — и все. Насколько это упрощение корректно? С другой стороны, насколько русский мир является синтетической концепцией? Или это просто какой-то набор идей, которые где-то возникают в соответствии с геополитическими желаниями того, кто сидит в Кремле?
А.Д.: Я думаю, что речь идет о непосредственных истоках того русского мира, о котором начали всерьез говорить уже в конце ХХ века. А в действительности он очень мощно начал зарождаться, как по мне, в XIX веке, когда по-настоящему начали говорить о самоидентификации. Начало XIX века — это эпоха романтизма, пробуждения наций, это желание утверждать национальную идею. Конечно, россияне тоже ищут эту идею. И в частности, в литературе это очень хорошо выражается. Не столько в философии, хотя можно говорить, особенно где-то на рубеже XIX—ХХ веков о так называемой русской религиозной философии. Но в большинстве своем попытки осмыслить свой неповторимый, особый путь — это то, что присуще литературе. Эти имперские ростки вместе с желанием выявить особую миссию проявились, прежде всего, в Пушкине, в Достоевском. Это именно те имперские писатели, которые утверждали не просто мощь России, но указывали на особое предназначение. И в этом отношении такой квазирелигиозный подтекст существовал, это с одной стороны.
С другой стороны, когда мы говорим о русском мире с позиций сегодняшнего дня, то должны признать, что современный российский истеблишмент настроен на то, чтобы идти вперед с головой, повернутой взад. Это такая яркая метафора, используемая Данте в Божественной комедии. Он изображает там грешника как человека, идущего вперед с постоянно повернутой назад головой. Еще вспомним религиозный сюжет о жене Лота, которая обернулась и превратилась в соляной столб. Желание жить в истории, возвращать архаику — это то, с чем мы сталкиваемся в случае с современной Россией. Именно те ностальгические вещи, которые присущи то ли Путину, то ли обслуге в лице Сергейцева, или Щедровицкого, или Дугина, или многих других. По большому счету, речь идет о реанимации того, что безнадежно, казалось бы, оставлено позади. Мы же помним часто цитируемый тезис Путина о том, что крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века был распад Советского Союза.
В.Л.: Очень важен тезис о голове, которая обращена назад. Мне долгое время было очень досадно, когда украинские деятели, гуманитарии, историки говорили о том, что украинское общество отравлено историей, что прошлое нас разделяет, мешает идти в будущее. А если сравнить отношение украинцев и россиян, я говорю об общем срезе от простого человека до властной верхушки, то очевидно, что мы кардинально отличаемся.
А.Д.: Безусловно. Здесь следует вернуться к XIX веку и исследовать, в каком смысле поднимается тема Петербурга как столицы империи. Мы видим по меньшей мере три попытки, три интерпретации. Одна — это, конечно, Медный всадник Пушкина, другая — Дзяды Адама Мицкевича, и третья — это комедия Сон Тараса Шевченко. Шевченко в сатирическом ключе описывает город, который "на багнищі мріє", очень едко высмеивает царя и царицу, показывает эту прогнившую систему, эту верноподданность. Кстати, тема «землячков» возникает у Шевченко, о тех, кто приспосабливается, пытаясь как-то выжить в тех условиях. Мицкевич определяет Петербург как создание Сатаны. И вместе с тем мы видим Пушкина, который пишет: «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия». Конечно, это совершенно имперский дискурс. Такие три ракурса, высказанные очень важными для россиян, поляков и украинцев поэтами. Мы видим диаметрально противоположные взгляды. В этом отношении украинство тяготеет к европейскому дискурсу. Не случаен момент близости Шевченко и Мицкевича, по крайней мере в этом контексте.
Хотя, если вдуматься, у Пушкина немного в поэме Медный всадник возникает тема маленького человека, этого Евгения, «под морем город основался». Но все равно имперский дискурс это оттесняет. Еще раз подчеркиваю: Шевченко и Мицкевич видят гниль, причем не только в буквальном смысле слова, города, основанного и построенного на болотах. У Шевченко говорится о казачьих костях. Речь идет о том, что человек значительно важнее, и нельзя приносить такие чрезмерные жертвы, как это принято в российском дискурсе.
В этом отношении вспоминаем вопрос, который в свое время задавали многие украинские историки. Тот же Костомаров, отделявший коллективизм россиян от индивидуализма украинцев. Мы можем противопоставлять, по крайней мере, сравнивать парадигму антропоцентрическую или персоноцентрическую — европейскую, украинскую, польскую — и ту властецентрическую парадигму, о которой мы говорили в связи с ордынской традицией, которая как тяготела в XIX веке над Россией, так и продолжает в начале ХХІ века.
В.Л.: Здесь очень интересно: есть властецентрическая парадигма бытия России. И в то же время мы видим людей. Такое впечатление, что опять мы говорим о загадочной русской душе. Ее очень хорошо, кажется, Достоевский объясняет: особенная святость русской души, но она не просто святая, а потому святая, потому что проходит через страдания. Действительно ли страдания лежат в основе русского общества? Ведь если смотреть на все эти видео и фото российской глубинки, становится жалко тех людей. Но когда ты их слушаешь — тебе становится не жалко. Они гордятся своей нищетой и попрекают Запад. Эти страдания, этот путь Достоевского — он правда сейчас актуален в России?
А.Д.: Есть немало примеров, показывающих, насколько этот дискурс остается жизнеспособным, достаточно мощным точнее, в современных условиях российской действительности. Если говорить в целом, то русская цивилизация (или как некоторые говорят — антицивилизация, тень цивилизации) в целом связана с климатическим фактором. С одной стороны здесь огромный природный ресурс, с другой стороны мы понимаем, что климатический фактор достаточно неблагоприятный. Это тяжелые условия, в которых живут люди на гигантской территории.
Тема страдания действительно пронизывает всю русскую литературу, особенно в XIX веке, когда эта литература по-настоящему заявляет о себе и показывает немалый потенциал. По крайней мере, это такое особое видение мира. И конечно, мы не можем не видеть, что это в целом депрессивная литература. Очень мрачный, зловещий колорит романов Достоевского, и не только этого автора. Он как раз делает акцент на страданиях и на особом пути России. Он принадлежал к так называемым почвенникам, то есть людям, которые постоянно говорят об особой миссии России. И это продолжение традиции Пушкина. Достоевский незадолго до смерти произносит речь о Пушкине. И там эта преемственность очень хорошо прослеживается. Во всяком случае, это претензия на то, что у России есть особый путь, она, считает Достоевский, должна сохранить определенные достояния европейской цивилизации, которые, дескать, начинают деградировать в Европе. Он утверждает, что «Запад гниет» и говорит о «стране святых чудес». Обратим внимание на Зимние заметки о летных впечатлениях Достоевского, и в некоторых его романах мы тоже увидим тему духовного загнивания Европы. Хотя на самом деле, когда мы сталкиваемся с героями его романов, то обнаруживаем, насколько там искаженная, патологическая, вырожденческая атмосфера. Какой-то очень причудливый, нереальный мир. Это некий бред, в котором мы находимся, когда читаем его, мы попадаем в какой-то особенный космос.
И не только тема страданий, потому что она может восприниматься как просто стремление сочувствовать. Сострадание к отверженному человеку есть и у Чарльза Диккенса, и у многих других европейских писателей. К примеру, знаменитый роман Отверженные Виктора Гюго — здесь есть переклички с Достоевским. Но с другой стороны мы видим тип человека, стоящего в стороне и озлобленного на этот мир. Хотелось бы упомянуть еще один текст Достоевского, его роман Записки из подполья. Там мы видим человека, который пронизан злобой к миру, завистью, который чужд этому миру, который мстит и одновременно отвергает рациональные устои. Он говорит: «Чтоб по своей глупой воле пожить». То есть он хочет показать, что существуют определенные каноны, определенные принципы, но они могут быть нарушены. Он говорит: хочу вильнуть в сторону, человек — это иррациональное существо. И такая иррациональность свойственна не только этому герою. Кстати, он так и не назван в этом произведении, это просто подпольный человек, или подпольщик. Он демонстрирует крайне деструктивный характер, и это мы видим в его действиях. Не только в его идеологии, его философии, но в том, что он делает на страницах этого произведения. И в этом отношении я бы говорил о ситуации в России. То есть, это определенная подпольная психология, которая здесь актуализируется.
Насчет Достоевского еще одно замечание сделаю — роман Идиот. Князь Мышкин, главный герой этого романа, рассматривает картину Ганса Гольбейна — младшего Мертвый Христос в гробу. Мы говорим о страданиях, а вместе с тем есть упор на таком негативном аспекте: когда может теряться вера. Достоевский видел в Европе, путешествуя, эту картину, был очень ею поражен. И вот князь Мышкин обращает внимание именно на смерть, на небытие. В этом отношении страдание перекликается с крайне отрицательными темами. В данном случае не просто смерть Иисуса Христа, а сама тема смерти представлена в таком темном, зловещем и деструктивном плане.
В.Л.: Вот вы говорите о страданиях и избранности, то, что закладывал Достоевский. Я выскажу крайне субъективное мнение. Мне кажется, что если через 50-100 лет в России родится еще один Достоевский, то он увидит страдания русских солдат в Буче или Бородянке, которые грабили или насиловали. Ибо такой искривленной оптикой можно очень многое объяснить. Но это такие вещи из сферы футурологии… В принципе Достоевский был православным философом, особенно ближе к финалу своей деятельности. Он очень много писал о народе-богоносце. Какова роль православия в основах русского мира? Оно будто бы объединяет, цементирует вместе с языком этот русский мир. Или нынешняя Россия православное, религиозное, в конце концов, государство, так как религия и православие тождественны в этих случаях?
А.Д.: Действительно, Виталий, вы подчеркнули, что есть опасность в том, что появится или, может, появился уже какой-то русский писатель, который оправдает эти преступления: изнасилования, мародерство в Буче или в Бородянке, или в Гостомеле, или где угодно. Ситуацию можно анализировать с позиции даже сегодняшнего дня, потому что, как нам известно, эти истории имеют искаженное восприятие и толкование. И когда мы говорим о медиальной сфере, о современных российских так называемых информационных войсках, то они готовы это преподнести в таком свете, когда преступления получают совсем другую интерпретацию.
Второй обстоятельный вопрос — насколько оправдано называть Россию религиозно-христианской страной, какую роль православие сыграло в вещах, о которых мы сейчас говорим. Я думаю, чисто эмпирические вещи очень хорошо показывали, насколько этот религиозный момент не был решающим. В том смысле, что основы христианской религии в значительной степени искажались в России. Возьмем 1917 год, приход к власти большевиков. Мы видим, с какой легкостью основная масса населения тогдашней России уничтожала храмы, расправлялась со священнослужителями. Опять же мы говорим о сращении духовной и светской власти, о том, что духовная власть, церковь мало в своей истории сопротивлялась несправедливости светской власти. И в этом отношении она теряла свой ореол святости, мученичества и христианских устоев как таковых. В сущности, когда мы видим, что иерархи русской церкви (вспомните патриарха Кирилла) благословляли и благословляют военных на убийство, когда мы видим, что они в течение очень длительного времени вступают во взаимодействие и сотрудничают со спецслужбами, это значит, что такая церковь не может оказывать серьезное влияние на общество. Она растворяется в светской власти.
На Западе всегда была честная конкуренция светской и духовной власти, мы это видели на многих примерах, это было основой динамики западной цивилизации. Возьмем протестантскую конфессию, насколько это важно было для создания буржуазного общества на Западе. Протестантские страны демонстрировали и показывают высокий уровень развития. Ничего подобного мы в России не найдем. То есть, церковь превращается в определенную обслугу, теряя авторитет, весомость своего голоса. И очень заметно сотрудничество с КГБ, с ФСБ или ранее с ГПУ. На самом деле, что-то очень болезненное есть в этом. И вряд ли мы можем говорить о церкви как определенном институте, который помогает по-настоящему проникнуться христианскими ценностями.
Почему литература завоевала такой авторитет в России и даже на Западе (справедливости ради должны признать — тот же Достоевский все-таки очень читаемый автор хоть в Великобритании, хоть в Германии, Франции, или в Соединенных Штатах)? Литература в значительной степени принимала на себя функции духовника в ситуации, когда церковь не справляется со своими задачами, не выполняет свою миссию. Не только, кстати, церковь, то же самое касается судов, то же касается школы. Ну и в конце концов литература берет на себя философские полномочия, потому что, как известно, в России в XIX веке почти все время философские кафедры были закрыты, философия находилась под запретом. Считалось, что это рассадник свободомыслия, ересей, крамолы.
В.Л.: Мы очень хорошо знаем Достоевского как литератора, но философии в его произведениях мы видим меньше. Хотя они действительно идеологизированы. А если поговорить про обобщенного путинца как про наилучшее отражение нынешнего российского общества? Если послушать все эти разговоры солдат, перехваченные СБУ, с матерями, женами — там волосы дыбом становятся. Здесь важно понимание противопоставления добра и зла. В России оно носит совершенно искаженный характер, и это не только практика, не просто люди подумали и так поступают. Очевидно, что в России это пытались и философски обосновать. Я имею в виду Владимира Соловьева, того, который философ, а не телеведущий. Когда на рубеже XIX—XX веков он размышлял о добре и зле и о войне в контексте добра и зла, то приводил такой интересный эпизод: зло — это когда у меня воруют коров, а добро — это когда я у кого-то ворую коров. Не кажется ли вам, что такое искаженное и в определенной степени стертое понятие добра и зла сейчас и определяет современный российский социум? Абсолютно, поголовно: от верхушки до самого простого мужика, который собирается воевать в Украине?
А.Д.: Мы находим очень много примеров, указывающих на эту перверсивность, искривленность ситуации. Ясно, что существует определенная система координат, когда мы говорим, что есть добро и зло. Вместе с тем есть манипулятивная стратегия, которая исповедуется в частности на уровне пропаганды: когда преступления предстают в невинном свете, когда зло оправдывается. И эта дихотомия теряет свою значимость и свою принципиальность. То есть происходит релятивизация — все становится относительным. Помним очень важный фактор, когда человек должен говорить правду, когда он должен быть последовательным, когда он должен жить в согласии с собственной совестью. Что мы видим в России? Что мы видим на примере Путина или коллективного Путина? Сначала, например, 2014 год, Путин говорит — нет, нас там нет, никоим образом не участвовали в том, что происходило в Крыму. А затем проходит буквально короткое время — и он утверждает в одном из интервью: да, а как нас могло там не быть. И таких примеров масса.
Когда мы говорим об упомянутых вами перехваченных разговорах жен солдат или офицеров, мы видим, насколько там деградированы ценности, просто не укладывается в голове. И мы говорим, как это коррелируется одно с другим. Путин как президент позволяет себе дерзко, цинично говорить вещи сегодня одни, завтра-послезавтра — другие. И он понимает, что за это никакой ответственности нести не будет. Очевидно, что общество, подчиняющееся такому правителю, исходит из подобной логики. Поэтому говорить о добре и зле в этих условиях — все это выглядит лишь определенными конструктами и словами, за которыми мало что стоит. А эта релятивность, относительность всего очень серьезно подкрепляется в том числе и Владимиром Соловьевым, который не философ, а который пропагандист. Он один из тех, кто способствует этой релятивизации в серьезных масштабах.
В.Л.: Всех поразили видео из Лисичанска, когда местные люди радостно приветствовали русский мир. Трудно говорить об их количестве среди всего населения Лисичанска. Но здесь довольно неожиданный и противоречивый вопрос. Когда мы говорим об оккупации и действиях российских солдат в этой оккупации, с одной стороны мы видим преступления, а с другой — украинцев как жертв. А может ли у находившихся или находящихся в оккупации украинцев возникнуть Стокгольмский синдром, некая симпатия оккупанту?
А.Д.: Вы знаете, этот вопрос не только оправдан, но и неизбежен. Мы постоянно об этом должны думать, потому что действительно Стокгольмский синдром — явление достаточно распространенное, я бы даже сказал — тотальная в подобных ситуациях вещь, с которой приходится сталкиваться. Но, на мой взгляд, здесь дело не так в возможности Стокгольмского синдрома, а в том, что, справедливости ради, мы должны осознавать, что немалая часть населения Луганской и Донецкой областей, даже тех, которые не были собственно в составе так называемых «ЛНР» и «ДНР», все же в значительной степени была проникнута симпатией к России. Не случайно на парламентских выборах ОПЗЖ получала в этих регионах немалую поддержку. Эти кадры из Лисичанска — это люди, которые отказались ехать, хотя местные власти делали много для того, чтобы эвакуировать их. Очевидно, они отказывались и сознательно это делали, потому что они ждали русский мир на своей территории. Приходится честно признать, что многие из наших сограждан, которые находились на не оккупированных врагом территориях Луганской и Донецкой областей, пребывали в плену тех российских нарративов. И, к сожалению, должны констатировать, что да, оно инерционно продолжалось и до 2022 года. Хотя, казалось бы, многое делалось для того, чтобы эту картину разрушить.
В.Л.: Вспомним сообщение Генштаба об ограничении передвижения военнообязанных, позже — ликвидация этого приказа. Здесь вопрос действий государственных органов или военных — это одно, но очень интересное дело с реакцией общества. Когда мы говорим о современном украинском обществе, которое во многом живет плюс-минус в спокойных условиях, несмотря на ракетные угрозы, как нам побороть равнодушие, которое проявляется каждый день? Уже какой день войны идет. Мне кажется, что украинское общество делает так, будто война наша, но там воюют на Донбассе и на юге, а мы-то здесь. И ситуация с вручением повесток на улице — весьма странная инициатива именно на улицах ловить людей. Но опять же это все вещи одного сорта. Люди начинают ощущать, что война не совсем их касается. Абсолютно иная ситуация была в феврале-марте. Вот как эту усталость от войны побороть? Возможно, философия или литература здесь подскажет, потому что опять же, на фоне войны зарождается очень много пессимистических прогнозов?
А.Д.: Здесь, думаю, не столько о литературе и философии стоит говорить, а о психологии, об определенном эмоциональном выгорании, о том, что человек начинает к чему угодно привыкать достаточно быстро. И первоначальный шок, имевший место в конце февраля, затем в марте, в апреле, понемногу начал словно спадать. Конечно, ужасы, те картины, которые мы наблюдали из Бородянки и Бучи, были серьезным триггером для многих. Но так или иначе, человеческий организм, вообще человек — это существо, склонное адаптироваться, как-то пытаться спасаться от слишком обостренного восприятия того, что его окружает. Это не то чтобы инстинкт самосохранения, но какое-то смягчение жесткого влияния на нашу психику.
А попытки вручать повестки в любом месте во многом свидетельствуют о том, что многие вещи не до конца преодолены. То есть тот властецентрический дискурс, подчинение силовым моментам, желание подстроить граждан под общий канон — это определенный отзвук жизни в условиях несвободы, я думаю. И где-то инерционно оно продолжает действовать, и на это, пожалуй, тоже следует обращать внимание.
В.Л.: Это для меня очень созвучно инициативе, которая сейчас в социальных сетях звучит от наших сограждан. Кто-то выпил рюмку и сел за руль, кто-то совершил какое-то преступление — а давайте его на фронт. И когда тебя поймали и вручили повестку, ты уже чувствуешь себя преступником. Не идет цивилизованный и системный призыв в армию, к выполнению конституционной обязанности каждого гражданина.
Но это наши проблемы, а есть проблемы более глобальные. Очень часто в начале войны Путина сравнивали с Гитлером. Вообще сравнения были в известной степени модными: Зеленский-Черчилль, Путин-Гитлер или Путин-Сталин. Читал в западной печати об Иване Ильине как любимом философе Путине. Ильин не отрицал, что фашизм, но в сочетании с православием, является идеальной идеологией для России. Можем ли мы говорить, что философия Ильина и в некоторой степени Дугина определяет Путина? Или этот человек руководствуется совсем другими, более приземленными, геополитическими вещами, а не общефилософскими, глубинными?
А.Д.: Хотел бы отметить, что Иван Ильин открылся для Путина, насколько я понимаю, достаточно поздно, в зрелом возрасте. Ни в его школьные годы, ни в университетские, ни в первые годы работы в спецслужбах ни о каком Ильине он не знал. У меня создается впечатление, что это произошло с подачи Никиты Михалкова, который является достаточно давним поклонником философии Ильина. А мы знаем, насколько Никита Михалков, а в свое время и его отец были интегрированы во власть, в советскую бывшую или в нынешнюю российскую. С другой стороны, в каких-то моментах философия Ильина очень согласуется с картиной мира, свойственной человеку спецслужб. Имею в виду именно Путина. У Ильина была идея о том, что существует некий международный заговор против России. Мол, Россию боятся, ее не хотят видеть как серьезную мощь в мире. И это, по существу, является желанием утвердить мощное государство, укрепить его милитарную силу. Это недоверие к миру, эта конспирология очень легко коммутируется с тем, что произрастает в недрах спецслужб, где каждый раз этот момент недоверия становится чуть ли не патологическим.
Кстати, примечательно, каким образом Путин пытается себя уберечь от коронавируса, эти дистанции, которые он соблюдает, принуждение проходить анализы тех людей, которые с ним сталкиваются. Вот это максимальное недоверие, а особенно для человека, более 20 лет находящегося у власти, — все это, конечно, объяснение того, почему именно Ильин оказался таким близким для Путина философом. Хотя, по всей видимости, он мало читал произведения Ильина. Я думаю, ограничивалось какими-то отдельными цитатами, которые просто оказались громко резонирующими с его собственными подходами, с его собственной картиной мира.
Относительно неких проводимых параллелей. Думаю, параллель Зеленский-Черчилль все же достаточно рискованна даже в чисто антропологическом плане. Но по отношению к Путину и Гитлеру — безусловно, здесь уже немало накоплено материала, показывающего, насколько все близко. Хотел бы кратко затронуть вопросы частых параллелей, которые проводились между определенными тоталитарными и авторитарными системами: нацистская или фашистская с одной стороны и коммунистическая — с другой. Мы помним, как неоднозначно воспринимали эти параллели многие в Советском Союзе и в постсоветское время. Считали, что это такая клевета, что это вызов по поводу коммунистической системы: как можно, мол, сравнивать. На самом деле есть очень много оснований сближать гитлеровский, нацистский режим и сталинский режим, большевистский. ГУЛАГ и концентрационный лагерь в Германии — даже на этом уровне мы видим определенные методы искоренения инакомыслящих и желание их фильтровать, уничтожать или использовать как безвозмездную рабочую силу. Были и сейчас раздаются голоса исследователей, таких как Норман Дэвис, Эрнст Нольте или Тимоти Снайдер, они очень четко подчеркивают близость этих тоталитарных систем. Мы вынуждены признать, что в путинской России заложена и одна парадигма, то есть коммунистическая, советская, и другая, то есть фашистская, нацистская, модели, которые в своей основе являются удивительно близки между собой.
В.Л.: Германия уже после Гитлера пережила денацификацию. Мы часто говорим о Ясперсе и его видении коллективной вины. Опыт, очерченный Ясперсом, пригоден для России после нашей победы или после окончания войны? Как вообще такую денацификацию можно провести? А второй вопрос: может быть, в России уже рождается новый Ясперс?
А.Д.: Относительно нового Ясперса — это достаточно рискованная попытка, здесь невозможно предвидеть. В принципе, Ясперс был человеком протестантской чеканки, протестантского толка. Макс Вебер, игравший серьезную роль в становлении Карла Ясперса, в отличие от Маркса, делал серьезный упор не на экономических обстоятельствах, а именно на религиозном факторе в развитии общества. И он говорил о протестантской этике, которая подчеркивает не столько этику убеждений, сколько этику ответственности. Поэтому то, что произошло с немецкой нацией между 1933 и 1945 годами, конечно, не могло не осмысливаться с точки зрения протестантской этики как этики ответственности. Поэтому у Ясперса возникает это понятие коллективной вины. Он говорит о разных аспектах коллективной вины и, соответственно, коллективной ответственности. То есть, не только уголовная, но и метафизическая, моральная и так далее. Думаю, эта особенность интеллектуального достояния Ясперса будет как-то осмысливаться на новом витке истории, в плане проработки опыта российско-украинской войны — в какой степени несет ответственность среднестатистический россиянин за экспансию, за происходящее в разных частях Украины. Неважно, это Мариуполь, Буча, Бородянка или Чернигов. Потенциал ясперсовских рассуждений о вине и ответственности, мне кажется, будет востребован.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.