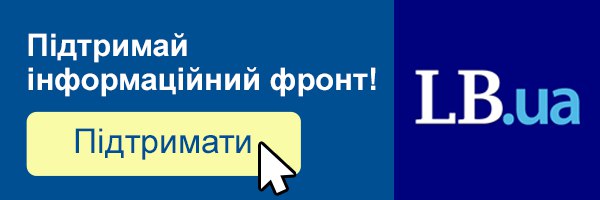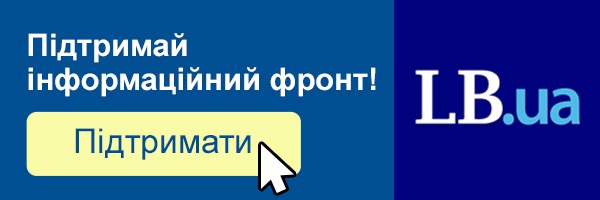Какую цену заплатит глобальная экономика за поражение россии?
«Война любит победу и не любит продолжительности…». Любой военный конфликт всегда негативно влияет, как минимум на региональную экономику, но в этот раз всё намного глобальнее.
Мировая экономика сталкивается с целым комплексом проблем, вызванных: вторжением россии, ростом инфляции и уровня долга, финансовыми санкциями, разрывом логистических цепочек, нестабильностью на финансовых рынках, ростом цен на сырьё, миграционным кризисом, рекордным уровнем бедности и потенциальным голодом в целых регионах.
Видео дня
Под влиянием таких факторов большинство международных организаций и рейтинговых агентств резонно откорректировали свой прогноз роста глобальной экономики, пересмотрев его в сторону снижения по 86% стран. Ожидается, что рост будет в районе 3.6% следующие два года, что практически на 1% медленнее февральских прогнозов. Фактически, война полностью нивелировала позитивные ожидания пост-пандемического восстановления экономики многих стран. Могу предположить, что вопреки бизнес сентиментам, уровень занятости и темпы производства не выйдут на пре-ковидный уровень, вплоть до 2024−2025 года, если не хуже. При этом, разрыв между ключевыми и развивающимися экономиками стремительно растёт. А отстающие страны, как я и предполагал ещё лет 5 назад, постепенно скатываются в зону невозврата, т. е. преждевременной де-индустриализации.
Инфляция останется одной из главных проблем в среднесрочном периоде, существенно превышая целевые значения — 5.7% и 8.7% по развитым и развивающимся странам, соответственно. Логично, что ФРС и ЕЦБ в следующие 12 месяцев будут концентрировать основные усилия на сдерживании инфляции. Проблема — не нова и имеет свою предысторию. Пандемия стоила мировой экономике порядка $24 трлн., которые не могли не поспособствовать раскручиванию инфляционной спирали. И если запас прочности у ключевых экономик традиционно выше, а негативные эффекты сглаживались «игрой в потребление», продуцируя «экономику казино», то развивающиеся страны и страны со средним/низким уровнем дохода находятся в намного более сложном положении. Особенно те, чьи долги привязаны к доллару или евро.
Регуляторы под огромным давлением: стремительный рост цен на энергоносители и ключевые сырьевые позиции, неопределённые санкционные пост-эффекты и лихорадка финансовых рынков. На фоне этого существенно усиливается недовольство со стороны электората и «сидящих на трубе» с призывом к ужесточению монетарной политики. В следующие два года мы точно станем свидетелями минимум 4−5 раундов повышения ставки. А значит, доступность капитала существенно снизиться. Но делать это нужно будет крайне деликатно, после десятилетия близких к нулю ставок и накопленного рекордного долга ($303 трлн).
Эффект будет ощутимым и, вероятно, приведёт к череде дефолтов (стран и корпораций) и глубоких реструктуризаций. По разным оценкам — более 40% глобального ВВП сегодня находится в красной зоне риска. Уже сейчас Мировой Банк внёс в «watch list» более 35 стран и ещё 12, которые с высокой вероятностью, объявят дефолт до конца года. Речь идёт уже даже не об общеизвестных проблемных зонах таких, как Аргентина, Ливан, Венесуэла и т. д., а о Тунисе, Шри-Ланке, Египте, Белизе, Анголе и прочих. Большинство из них не играют существенной роли в мировой экономике, но в них проживает более 10% населения Земли, а это грозит серьёзным повышением социальной напряженности в целых регионах.
Регуляторы, по сути, находятся в патовой ситуации, некой «уловке-22», когда практически невозможно найти баланс между необходимыми жёсткими мерами противодействия инфляции и поддержки восстановления экономического роста путём создания дополнительных монетарных и фискальных стимулов. Ситуация усложняется ещё и тем, что большинство факторов, ускоряющие инфляцию, носят экзогенный характер — милитарные шоки, санкции, разрыв связей и локдауны в ключевых торговых хабах. Вследствие чего, мы уже наблюдаем полярные контр-стратегии со стороны регуляторов развитых и развивающихся стран. Особенно, это ярко видно на примере США и Китая. ФРС уже признал фактически, что пропустил инфляцию и почти не говорит о её «transitory» характере, пытаясь начать агрессивно бороться с ней ужесточением монетарной политики. Китай, чтобы избежать серьёзного охлаждения экономики, вынужден выбирать полностью противоположный путь. Курс на девальвацию юаня прослеживался достаточно давно, но мало кто мог спрогнозировать настолько существенное падение. Подобные резкие перепады, редко когда проходят безболезненно для финансовой системы страны и могут вызвать дестабилизирующие движения не только внутри самого Китая, но и в Юго-Восточной Азии, включая Сингапур.
О чём я бы волновался несколько больше, так это о серьёзном риске стагфляции
Подобная управляемая девальвация — лишь прелюдия к запуску масштабных программ стимулирования экономики и инфраструктурных проектов через государственные предприятия. В целом, подобная практика является некой стандартной рабочей процедурой для Народного банка Китая, начиная с 2015 г. Именно тогда, появился turn around playbook. Правда, результат его применения был неутешительным для локального инвестора, который понёс катастрофические потери. Тогда, всего за три недели, SSE Composite упал на 32%, а капитализация рынка — почти на 50%. Сейчас мы можем оказаться на пороге схожего сценария. В пользу этого свидетельствует сложившаяся геополитическая и экономическая ситуация: политическое и торгово-экономическое напряжение с США, накопленные внутренние дисбалансы, эхо Evergrande и закрытые на локдаун многомиллионные регионы под влиянием Омикрона.
И всё-таки, несмотря на то, что сегодня уровень долга большинства стран существенно выше красных линий 2008 года, я бы не дал более 15% вероятности возникновения глобального долгового кризиса. Скорее сейчас мы имеем дело с классическим очищением пространства от провальных стратегий популистических правительств выборочных юрисдикций.
О чём я бы волновался несколько больше, так это о серьёзном риске стагфляции. Глобальная экономика замедляется, Китай пытается избежать рецессии, существенно сокращая импорт и пытаясь справиться с пост-эффектами торговой войны. Всё это ставит мир на растяжку выбора, т.к. с одной стороны важно не допустить охлаждения экономики, а с другой — критично необходимо остановить печатный станок, что во многих страна воспринимается, как крайне непопулярная мера. Хотя, на мой взгляд — это единственный способ избежать стагфляцию и повысить шансы на soft landing. Естественно, важно как можно скорее прекратить войну в Украине, не допустить возгорание новых очагов в других проблемных регионах планеты, направить цены на сырьё вниз и сбалансировать санкционные стратегии. На данный момент всё это выглядит маловероятным и нет уверенности, что soft landing реалистичен, об этом нам говорит и историческая память.
Милитарно-санкционный суперцикл и новый шок цепочек поставок
Казалось бы, только-только торговля и цепочки поставок стали оправляться от пандемии, как пришло время нового, куда более тяжёлого испытания. И, если в общем объёме мировой торговли и кросс-граничных платежей, россия и Украина занимают относительно небольшую долю, то, как только речь заходит о торговле ресурсами, в частности агропродукции, ситуация меняется кардинально. На Украину и россию приходится более трети мирового экспорта пшеницы, более 40% растительного масла и более 20% кукурузы, минеральных удобрений и природного газа. Также существенную долю занимает нефть и важнейшие для многих отраслей, металлы — палладиум, никель и др. Это серьезный удар по автоиндустрии и самолётостроению, которые, к тому же сильно зависимы от наличия на рынке инертных газов (аргон, неон) и титана. Похоже, неудовлетворенный ещё со времен пандемии, спрос на полупроводники будет только расти, а производители электрокаров вынуждены будут существенно пересмотреть объёмы выпуска из-за недопроизводства батарей.
На фоне ожидаемого шестого пакета санкций ЕС (надеюсь, у Германии всё-таки найдутся аргументы для Венгрии), заблокированных портов в Украине и множественных ограничений из предыдущих пакетов санкций — наблюдается стремительный рост цен на сырьё. Нефть с начала года выросла на 46.6%, а некоторые эксперты продолжают верить в заоблачные $200 за баррель (сейчас $110). Большинство вышеперечисленных категорий также демонстрируют ажиотажно-спровоцированный рост на 10+%.
Но самое интересное происходит и будет происходить с ценой на газ, который на ряду с ядерной кнопкой, является главным инструментом геополитического шантажа из бункера. Все мы помним, как в ходе первой фазы войны в один из дней цены в Европе взлетели на 170% по сравнению с пиковым значением января. Подобная ценовая лихорадка, а её можно смело прогнозировать и далее, будет стоить от 0.3% до 0.7% ВВП ЕС и до 0.7−1% дополнительной инфляции. Вынужденное ограничение импорта энергоносителей также ударит и по объёмам производства в ЕС, так усиленно разогреваемых в финальной фазе пандемии. На фоне этого, план озеленения экономики и победа над энерго-традиционным лобби, выходят уже на уровень, близкий к экзистенциальному. Параллельно подняли головы вечные критики ВТО с призывами создавать «стратегические автономии» по критическому импорту.
Читайте также:

Лариса Бондарева Прорывая блокаду. Как украинцы побеждают на аграрном фронте
Отдельно хочу остановиться на агро. Мы гарантировано получим ещё один тяжелый год для мирового рынка продовольствия. В прошлом году — неурожай во многих agri-friendly регионах, вызванный засухой, наводнениями и ураганами, был скомпенсирован рекордным урожаем в Украине и ряде других областей. Но в этом году перекрыть будет уже некому. Да, сделано всё, чтобы обеспечить посевную — деньгами, ГСМ, семенами, СЗР, техникой и экспортными коридорами. Над этим работали огромные команды — государство, бизнес, банки, поставщики, дипломаты, строители, логисты и т. д. Осторожный прогресс уже есть — экспорт, пусть и пока очень небольшой, восстанавливается, посевная покрыла 70% земель, а все участники рынка в рамках разумного принимают риски и идут на ценовые компромиссы. Основная задача — это попытаться реализовать, хотя бы частично, остатки прошлого урожая — около 25 млн.т. (4.5 млн.т. заблокированы в портах) и подготовить инфраструктуру к новому урожаю через механизмы временного хранения, до момента пока не будут разблокированы порты.
Но будем реалистами — объёмы этого года будут значительно ниже (минимум на 30%). Оккупанты предпринимают все попытки, чтобы и этот план был под угрозой — постоянные ракетные удары по критической инфраструктуре, нефтебазам и намеренное уничтожение агротехники.
В результате этой трагедии можно выделить страны, которые:
1. Напрямую столкнуться с проблемой нехватки продовольствия, а в отдельных случаях и голода: Африка, Центральная Азия, Кавказ, Молдова и другие. Особенно пострадает группа стран Среднего Востока, чей импорт зерновых на 75% зависит от Украины.
2. Ещё не успели восстановиться от коронакризиса и просто, не смогут абсорбировать новый ценовой шок.
3. Страны-реципиенты беженцев с нарастающими дисбалансами, нерешённой проблемой среднесрочной инфляции и рынка труда.
Здесь кроется глубинная, но очень серьезная проблема. Если в развитых странах еда составляет 3−6% в структуре затрат, то в менее развитых — до 40−60%. Неизбежный рост цен, а уже сейчас цена на новый урожай пшеницы приближается к 400 евро за тонну — приведёт к усугублению проблемы бедности и голода, а также вынужденной миграции. Не исключаю вспышки региональных конфликтов «за еду», т.к. все мы помним, что «а hungry man is angry man».
Читайте также:

Иван Компан Распродажа в стиле пандемии: куда прятаться?
Но, не агро единым. Все экстра-оптимистичные прогнозы роста мировой торговли пересмотрены — до скромных 3%. Из позитивного — это снижение стоимости на 40 фт. контейнер — Drewry World Container Index снизился до $8 830. Это, конечно, не более $10 тыс., как в разгар пандемии, но всё равно почти на $6 тыс. выше среднего за 5 лет показателя.
И пару слов о фондовом рынке. Если коротко, практически все — в коррекции, особенно пандемийно-хайповые компании, многие из которых попросту вошли в пике, став жертвами своей же «новой» экономики лайков, просмотров и подписчиков. Те же, кто еще не упал, надеются, что политика повышения ставок ФРС будет относительно плавной, а отчёты по уровню занятости останутся в диапазоне полустолетнего минимума в 3−3.5%. Но самое интересное тут еще впереди.
В общем и целом, я прогнозирую усугубление дисбалансов в глобальной экономике, нарастание уровня неопредленности, стагфляционных рисков, и необходимости сложных trade off решений со стороны ключевых стейкхолдеров.
Для нас же, сейчас на первом плане — дай Бог, скорая победа. Слава Украине! Слава ВСУ!
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.